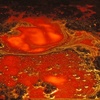А.Чечётин - «Амональное». БЫЛЬ.
28 февраля 2011
6299
2
morozov
-

А.Чечётин
«А М О Н А Л Ь Н О Е»
Б Ы Л Ь
Маме моей, Юлии Петровне
Посвящается…
О Г Л А В Л Е Н И Е
I.
Встреча
Выселение
Дербетовка
Этап
Буча
Монастырь
“Места избранные”
Голод
Сиротство
Настасья
Груня
Благовещенье
Штрафной
Исчезновенье
Новое переселение
Старшие
Учитель
Долгожитель
Псковитянки
Военный завод
Красный камень
Дорога домой
II.
Иван Данилович
Спецы
Амональное
Дедушка Сухенко
Большие
Партизанка
Рублевы
Красные вагоны
Весна
Драка
“Война началася...”
Школа
Бабушка Степанова
Метечко
“Все васильки, васильки”
“Никитины мозги”
Павел Васильев
Березы
Лапта
Волчьи сумерки
Немцы
Холода
Воло
Вольные
Пятый класс
На квартире
Художник
Голубь
Родина
Поэт
Торф
Суд
Комсомол
Комендант
В Перми
Вербованные
Немецкое кладбище
Старая груша
Мертвый поселок
Вместо послесловия
Модель геноцида
Они чудом выжили...
Оглавление
«Смешно и несерьезно теперь распространяться о раскулачивании? Снявши голову, по волосам не плачут».
(И.Сталин)
"Уничтожение кулачества как класса" подавляющим большинством людей и до сих пор воспринимается как некий лозунг тех времен, почти как аппаратная метафора, означающая насильственное массовое переселение крестьян из Центральной и Южной России в другие, более северные края и области. Таким же общим местом стало и словосочетание "война с народом". В этом плане закономерно высказывание типа: " Сколько можно об этом?!", " Народ устал от подобной информации..." и пр.
Разумеется, это следствие хорошо завершенного "дела". Теперь никому и в голову не приходит, что-то была глубоко продуманная и всей мощью огромного механизма осуществленная совершенно бескровная военная операция, имеющая подготовительный период, собственно уничтожение и завершающую часть - сокрытие. Хотя, казалось бы, как можно сделать (именно уничтожить более десяти миллионов все возрастов детей, стариков, мужчин и женщин), а потом, если не скрыть вовсе, то хотя бы не оставить явных следов, закамуфлировать идеологически? Выходит - смогли.
Я родился и вырос в спец-ссылке в Верхотурском районе Свердловской области. Многое из пережитого там нашими людьми впиталось, что называется, с молоком матери, из разговоров взрослых, что-то стало ясным благодаря публикациям в период перестройки, но во всех подробностях открылись передо мной все три этапа чудовищной "акции" только в самое последнее время, когда потянуло вдруг на родину, чтобы встречаться и беседовать с теми немногими бывшими "спесами" - так называли нас местные вольные жители. Впрочем, тогда, детьми, мы очень завидовали вольным.
Ко времени моих поездок на Урал большинство из бывших ссыльных разъехались, многие умерли, но те, кто были живы, хорошо знали и уважали мою мать, помнили меня и теперь рассказывали такое, чего не говорили даже своим детям - берегли их.
И для меня самого совершенно неожиданным оказалось то, что, родившись там и одним из первых слов усвоив тяжкое прозванье "спец" (спецпереселенец), я очень многого не знал, а что-то понимал превратно.
Когда начал это печальное повествование, еще задолго до перестройки, ясно осознавал, что при жизни не напечатают, что книга нужна будет людям потом, когда история начнет свою справедливую работу.
И во время "гласности" и теперь отказался от нескольких предложений публикации. Почему? Объяснить почти невозможно. Многие знакомые искренне считают, что связано это со слишком сильным испугом, пережитым в те годы. Это, безусловно, есть, но в данном случае не самое главное. Вероятнее всего от того, что в большинстве своем люди еще не созрели для живого человеческого (участливого) восприятия данного материала: деление на "наши" и "не наши" слишком прочно вошло в сознание народа.
Я бесконечно благодарен всем, кто поведал мне свое тяжкое сокровенное. Имена, давших на то согласие, оставил подлинными, с кем не сумел поговорить, несколько видоизменил, а в некоторых случаях заменил вымышленными - жанр повествования позволяет.
Автор.
ПУТЬ НА СЕВЕР
Часть первая
ВСТРЕЧА
Чем дольше живёшь, тем сильнее тянет на родину, в то место, где родился, где детство прошли и юность, где лёгкие узнают свой воздух, и дышится легко, и на душе покойнее, и звуки посёлка всё те же, как и много-много лет назад.
Только людей, что окружали тебя в те поры, осталось очень мало: большинство разъехались по городам и весям страны, многих уже нет в живых. Но и о тех, с кем встречаешься там каждый день, вдруг узнаёшь такое, что и сегодня еще ощутимо как реальность, как никогда не заживающая рана.
После смерти мамы я много лет не бывал на Басьяновке. Тяжело было очутиться там без неё, без родного дома, без того, что возвращает к ощущениям детства: защищённости, внутренней расслабленности, душевного покоя.
Зимой, будучи в командировках на Урале, два раза заскакивал на сутки, чтоб побывать на могиле мамы - уж очень она звала. А чтобы летом, во время отпуска, как прежде, поехать туда на месяц, об этом даже и мысли не было.
Но вот, когда заболел и уже выкарабкивался к полноценной жизни, сестра, гостившая в это время у меня, говорит: "Поезжай-ка ты лучше к нам. У нас открылся долгостройный профилакторий. Процедуры хорошие - грязи, радон, электросон, отдохнешь, поправишься".
- А жить у вас? У нас не захочешь, в профилактории комнату дадут. Там даже люксы есть. Шестнадцать рублей профсоюзная путёвка на двадцать четыре дня. Тебе дадут.
Я внял совету сестры и через несколько дней был уже на Басьяновке. И теперь каждое лето езжу на родину, а, вернувшись, считаю месяцы, недели, дни, когда снова поеду туда.
Нелегко возвращаться в те места, где страдал, где любил, где "сердце я похоронил", но приятно снова ходить теми же тропами, переступать через те же кочки и канавы, что и пятьдесят лет назад.
И каждый раз, когда опять иду по такой стёжке из бани, ноги сами сворачивают к одиннадцатому дому, и возникает реальное чувство, что вот сейчас приду, открою дверь и меня встретит мама, и, выпив молока, лягу на свою кровать у окна, выходящего на закатную сторону неба, где за огородом Колесниковых уже село солнце. Но остановлюсь вдруг у зияющего проёма двери нашего мертвого, населённого бродячими собаками и крысами дома, и нехорошо становится на душе. А люди, не знающие меня, подумают: "Что он там ходит? Что потерял там?"
- Жизнь мою и многих людей когда-то... - ответил бы я, рыдая.
Правда, меня, слава Богу, никто не спрашивает, и я хожу и хожу, рассматривая остатки фундаментов, и вижу деревянные дома и бараки, которых давно уже нет, и комнаты, и окна, и улицу без асфальта, без плиточных тротуаров, без кирпичных трёх и четырёхэтажных домов с широкими лоджиями, без прекрасного корпуса профилактория с двухкомнатным номером, который я занимаю, цветным телевизором, ванной и видом на тайгу. Всё это уходит куда-то, исчезает, и я вновь переношусь в то время, когда жители Басьяновки четко делились на две категории - на вольных и на "спецов". Теперь все басьяновцы вольные, нет даже вербованных. Бывших ссыльных осталось очень мало. Я с ними встречаюсь, как со своими, близкими мне людьми, и каждый вспоминает что-либо из нашего уже далёкого, но никогда незабываемого прошлого.
А тут узнал, что в профилактории отдыхает тоже приезжий бывший спецпереселенец Пластуненко Филипп Дмитриевич. Я его хорошо помню ещё по Второму посёлку, когда был совсем маленьким. Он по просьбе матери переложил нам печку, сделал несколько витков дымохода, и это на многие годы дало относительное тепло, а может быть, и спасло наши жизни.
Все мужчины специального поселка, в котором мы тогда жили, а их было очень немного, постоянно ходили в той же одежде, в которой работали, другой просто не было, казались неопрятными, неуклюжими. Но дядя Филя выглядел аккуратнее других и очень ровным, прямым. Он был высокий и какой-то негнущийся. Лицо всегда улыбалось.
Во время моего приезда на Басьяновку из мужчин, бывших спецпереселенцев, поколения моей матери в живых осталось человек шесть-семь. Им было под восемьдесят и чуть больше. Состояние здоровья неважное, говорить затруднительно, а главное - тяжело вспоминать, даже мысленно возвращаться в ту прежнюю страшную жизнь. Но они меня узнавали, охотно и сердечно встречали, раскрывались и говорили так, как никогда не позволили бы себе с вольными, и это грело, укрепляло дух и уверенность в необходимости, предпринимаемой работы.
Узнав, что Пластуненко еще крепок, ему лишь семьдесят пять, я обрадовался и с нетерпением ждал следующего дня, чтобы встретиться с ним.
Передо мной уже открылись во многих подробностях все три этапа акции "уничтожение кулачества как класса". Что-то, знакомое с детства, уточнялось, вставало на свои места, кое-что оказалось ясным только теперь, когда начал писать, и поэтому свидетельство каждого человека было дорого чрезвычайно.
На следующий день встретились с Филиппом Дмитриевичем в гардеробной профилактория при смене обуви. Он стоял ко мне спиной в белой рубашке с белой негустой шевелюрой, но по-прежнему негнущийся статный астеник. Повернувшись, он узнал меня сразу и беседы наши начались тотчас же.
Он, как и мои родители, из кубанских казаков, но из другой станицы. Они дербетовцы, то есть, те, кого выселяли дважды, прежде чем повезти на Север.
Я о дербетовцах слышал не раз. Но теперь узнал более подробно.
ВЫСЕЛЕНИЕ
Отца у них не было - погиб в гражданскую. Когда уходил из дома, Филипп был совсем маленький. Запомнил только, как прощались. После отступления белых у них во дворе осталась хромая кавалерийская лошадь, ставшая затем кормилицей небольшой семьи из четырех человек: бабушка, мать, сестренка Зина и сам он, Филиппок.
Советская власть, как и всем крестьянам, дала землю, и Пластуненки трудились каждый в меру сил, что называется не покладая рук. Раньше считались зажиточными, а за время войны хозяйство разорилось, двор от живности опустел. И вот теперь год за годом упорным женским и детским трудом восстанавливался прежний уровень жизни, и он был почти достигнут к двадцать седьмому году, но начались немыслимые обложения налогами, закончившиеся в тридцатом коллективизацией.
В самое тяжелое время Филипп жил у тетки и у крестного отца в другой станице. Дважды пытался ходить в школу, в третий класс, но через месяц завуч говорил: "Я знаю кто ты такой. Не хватало еще помощь тебе давать". И немедленно следовало исключение.
Выселять их начали раньше всех. Как только стали организовывать колхоз, заняли под правление дом. В зале - так на Кубани называлась горница - разместились председатель и кассир, в прихожей - табельщик. Пластуненки вынуждены были жить в летней кухне. Лошади и коровы уже лишились. Землю тоже отобрали и фактически загнали в колхоз, обязав мать и бабку выходить на работы.
Филиппа, как малолетку, поначалу никуда не записывали, да и он сам старался лишний раз не попадаться дяденькам на глаза: с утра уходил к своим приятелям-одногодкам, которым тоже не разрешали учиться. Но однажды уполномоченный стодворка - по-современному, бригадир - вечером, заметив его во дворе сказал: “Ты завтра, Пластуненко, собирайся. Бери лопату, будешь бахчу сажать. Поедут сто баб и ты с ними - за мужика. Если что, инструменты подладишь. Еду с собой возьми”. -
"Я ему ничего не стал говорить, а сам расстроился, не знал что делать?- рассказывал Филипп Дмитриевич, - Днем уже записался с ребятами и девчонками на другие работы в Батайск, на Садомский комбинат. Меня уже назначили старшим группы в двадцать человек. Весь вечер и полночи ломал голову, думал, что будет, если на бахчу не явлюсь? И так, не приняв никакого решения, уснул. А в пять утра прибежал и залез на сарай, где я спал запыхавшийся приятель.
- Твои товарищи все уехали.
- Как уехали?
- Так. Стучали в окна, срочно вызывали, и все ушли на станцию.
Я вскочил, взял приготовленную краюху хлеба с солью и бегом туда. Забежал на станцию, там никого нет. Вылетел на перрон - пусто. На третьем пути стоит эшелон из телячьих вагонов. Смотрю, окошко с решетками. И вдруг доносится негромкое. "Сюда, мы вот здесь”.
Побежал через рельсы. И тут увидел, что между вагонами охранники по двое-трое у каждого.
- Не подходи. Тебе делать нечего! - гаркнул один из них, вскинув винтовку.
Вернулся домой ни с чем. Как ребята работали в Батайске или, может, где подальше? Ничего об их судьбе узнать мне не пришлось. Через полмесяца нас увезли в Дербетовку."
ДЕРБЕТОВКА
Первая часть акции "раскулачивание" проводилась в зависимости от местных условий по-разному. Были и такие хитрые варианты, как Дубовка и Дербетовка.
Известно, что многие донцы и кубанцы воевали на стороне Советской власти. "Красные казаки" - это не какие-то отдельные личности из бедноты, а это более емкое понятие, отражающее целое явление. Были даже красные атаманы и командующие большими воинскими подразделениями.
И вот теперь, прочно осев на земле, недавно снимавшие на ходу белые головы так называемые "партизаны" в массе своей не проявляли желания вступать в колхоз, упирались, и кто-то специально продумывал вопрос, что с ними делать? Как поступить? Ведь люди сами по себе горячие, бойцы опытные.
С красными командирами и атаманами проще: поодиночке арестовали и отправили на Соловки. А насчет рядовой братии решили иначе. Население больших бедных станиц Дубовка в Сальских степях и Дербетовка на Ставропольщине легко сагитировали на переселение с тощих обезвоженных земель на благодатную Кубань, сказав им, что будут жить в кулацких домах. И не желающим сдавать в колхоз лошадь, корову и инвентарь красным казакам предложили переехать в те края.
На недоуменные реплики кубанцев: "Как же так, мы бросаем свой дом?!.." "Вы нас выдворяете!.." - отвечали лукаво:
- Вы нам помогли власть завоевать, теперь помогите удержать.
- Как?
- Не мешайте организовывать колхозы. Мы вас добровольно переведем, но этим напугаем других. А там вам дадут дома, землю - обрабатывайте единолично, трогать не будем. Живите без колхоза.
- Помогать, так помогать... - решили мудрые казаки, согласившись покинуть родные места. Правда, служивые старики отговаривали, дескать, "не надо черту силы добавлять", но это не подействовало - велик был соблазн жить без колхоза.
Село Дербетовка Дивненского района растянулось вдоль речки Колаус, сбежавшей где-то с далеких гор. Еще не разрушенные церкви - кирпичная и деревянная - издали оживляли вид, напоминая об обустроенной, сообразной с обычаями жизни. Но любопытные суслики, стерегущие по краям дороги унылую степь, песчаная земля, заросшие бурьяном низины, да односкатные крыши хат настраивали подъезжающих переселенцев на печальный лад. А когда они въехали во дворы и увидели неуютные мазанки и колодцы без воды, многие сразу повернули повозки обратно и поехали в свои станицы. Более благоразумные остались, между собой решив: "Раз договорились помогать, надо тут жить".
А те, кто вернулись на Кубань, начали выгонять поселившихся в их дворах ставропольцев и сальцев. Но их всех переловили, арестовали и под охраной привезли обратно в Дербетовку.
На Басьяновке жили остатки бывших дербетовцев и дубовцев. Это Колыбелниковы, Брежневы, Котляровы, Москаленко, Абрамовы. Дербетовцем оказался и Пластуненко Филипп Дмитриевич. Понятно, что во время гражданской в свои восемь лет быть красным партизаном он не мог. Но поскольку при правлении колхоза их семья была, как бельмо в глазу, а дом явно пришелся по душе председателю, было решено переселить в Дербетовку и их. Приказали за двенадцать часов собраться, взять с собой самое необходимое, и ранним весенним утром плачущих двух женщин с девочкой Зиной и шестнадцатилетним Филиппом на подводе повезли в Ставрополье.
Каждая семья взяла с собой несколько мешков муки, картошку для посадки, кое-что из скарба. У кого лошадей не было везли на мобилизованных подводах, сами шли пешком.
Рядом с Пластуненками заняли пустые хаты их станичники Щербина Василь, без жены с тремя подростками и старики Гречко - дед, бабка и сын. В Дербетовку согнали множество семей из разных селений Кубанского края.
Отдохнув с дороги, начали копать огороды. Посадили восемь соток картошки, капусту, зелень. Колодец у них оказался без воды, таскали из речки. А вскоре зацвели сады, заработало неутомимое южное солнце, все в природе пришло в бурное движение, и жизнь понемногу стала входить в привычную для трудящихся на земле колею. Некоторые из многодетных приобрели коров. Они там были: как и лошади, низкорослые, красные с маленькими рожками. Сказывалось соседство с Калмыкией, Элиста была недалеко.
Прошел апрель. Хорошо росли обильно поливаемые трудолюбивыми кубанцами овощи, завязалась капуста, начала зацветать картошка, и вот в середине мая приходит уполномоченный стодворка и говорит.
- Завтра все мужчины должны явиться на собрание в сельсовет. Только одни мужики:
"Мать встревожилась, почуяв неладное - рассказывал Филипп Дмитриевич, но, я ее успокаивал, говоря, что это обычное собрание. По-казачьи вызывают только мужчин. Зина хотела со мной побежать, но, я ее отговорил и быстро свернул на другую улицу. Там увидел двух красивых девушек в одинаковых газовых шарфах на похожих головках. Они были, как близнецы.
- Возьмите меня с собой, слетело вдруг с языка.
- Пойдемте, всерьез сказала одна из них.
В это время нас догнал соседский сверстник черный, как цыган, Гавриил Гречко. Он молча взял другую девушку за руку, и мы пошли по улице, радуясь солнцу и напевая песни.
Возле церкви на базарной площади, расставшись с приятными спутницами, вошли во двор сельсовета, куда уже шли и шли со всех сторон молодые и старые казаки.
Парадная дверь большого бывшего купеческого дома была закрыта, и все входили во двор, окруженный высокой кирпичной стеной и такой же высоты глухим забором. За стеной сад. Рядами стояли яблони, сливы, груши. Часть людей толкалась в коридорах и в небольшом зальчике, остальные курили и разговаривали на улице.
Кто-то сказал:
- Сейчас придет комендант, будет собрание.
Несколько мужиков, почуяв недоброе, стали перелазить через забор, но в это время открылись ворота и в них появились человек десять солдат с винтовками, а другие вкатили пулемет системы "Максим", недвусмысленно развернув его в нашу сторону. Загнали и тех, кто успел перескочить через забор.
Началось мое первое, как сказано в писании, томление духа. Всего нас было человек двести мужчин самых разных возрастов. Недоумевали, громко возмущались арестом, постоянно двигаясь, перемещаясь, меняясь местами - одни в помещении, другие на улице. У туалета, примыкавшего к забору, стояло двое солдат.
Прошли одни сутки, другие, комендант все не приходил. Земля была еще холодная, спали в доме по очереди. От скуки некоторые играли в домино. Помню, Ломоносов Николай из Лабинска больше всех выиграл.
Еду нам приносили из дома, но близко к родным не подпускали. Так, издали перекрикивались, спрашивая друг друга: "Ну, как там?.." То мать приходила ко мне, то сестренка.
На третий день явились гэпэушники и стали по очереди записывать, спрашивая, сколько лет, откуда и прочее. Я решил на год уменьшить свой возраст, думая, что отпустят, но чекист сказал: “А, пойдет” и оставил в списках.
Узнали от родственников, что им всем велели вещи укладывать и увязывать. Значит, опять повезут.
- Куда?- спросил один дядька свою жену.
- Да обратно повезут, домой, - успокоила казачка.
Дня три переписывали нас, не спешили. А на четвертый рано утром стали выкрикивать по списку и выводить за ворота. Команда была: "Построиться по четыре человека!" На улице уже стояли конвойные верхом на лошадях.
Когда все построились, они взяли шашки наголо, и мы пошли по совершенно пустой улице станицы, замыкаемые двумя пулеметами сзади. Жителей никого в домах не было. Мычали недоенные коровы, по огородам ходила птица. Кто-то предположил, что выведут за околицу и постреляют. Все заволновались, загудели. Чернявый мужчина около меня затянул песню.
"Прощай казачка молодая,
Прощай голубушка моя..."
Потом запели.
"Ой, Кубань, ты наша родина,
- Вековой ты богатырь!.."
Но вскоре увидели станцию с эшелоном из товарных вагонов. Там суетились люди, и все поняли, что на этот раз не убьют.
Около станции нас остановили. В телячьих вагонах увидели уже погруженные семьи. Женщины пытались выскочить, подбежать, ребятишки кричали, но конвойные задерживали, стращали.
Мы еще часа два стояли на солнцепеке под охраной в строю. А затем подошел какой-то военный в шинели, что-то принял от сопровождавшего, расписался, и дал команду: " Разойдись по вагонам, к своим семьям!" Здесь мы увидели оцепленье и те же “Максимы”, поставленные в отдалении.
Так не сразу, с оттягом, нас раскулачивали или расказачивали, как хочешь понимай"- с иронической грустной складкой у тонких губ закончил свой рассказ о Дербетовке Филипп Дмитриевич Пластуненко.
ЭТАП
"Состав был большой, подцепленный двумя паровозами. За ними два пассажирских вагона для штаба и охраны, затем теплушка с вещами и продуктами - продолжал повествованье Филипп Дмитриевич - Поднимались по приставным нешироким трапам.
Как только мы сели, двери сразу наглухо задвинули, звякнули запоры, их закрутили проволокой, и началась невероятная, какая-то нереальная, кошмарная езда, продолжавшаяся почти месяц, до первых чисел июня.
Несколько этапов пережил я на своем веку, но этот, теперь могу точно сказать, был самым тяжелым. Везли больше ночами. Днем стояли в тупиках на маленьких пустынных полустанках.
Сначала ехали в сторону Москвы. Долго гадали, спорили, куда повезут? Одни говорили, на север. У других годом раньше увозили в Котлас. "На Соловки." - уточняли третьи. “А может. в Мурманск?” - предположил наш сосед по нарам дядя Вася Семеницкий.
В вагоне было больше полусотни человек. На сплошных трехярусных нарах постоянно копошились дети и взрослые. Все время слышалось.
- Дай молока!
- Мама, исть...
Душно неимоверно, железные люки на зарешеченных окнах задраены. Днем крыша накалялась - нечем было дышать. На одной из остановок кто-то сказал начальнику охраны:
- Надо рубить пол или что-то делать, мы задыхаемся.
- Не сдохните, ничего не сделается - ответил гэпэушник.
У кого сердце послабее, теряли сознание.
Когда останавливались в поле для оправки и для уборки вагона, иногда ставили трапы, и мы выходили как пьяные. Некоторые падали, друг друга поддерживали. Это при том, что в России была весна, начиналось лето, кругом свежая зелень, птицы поют.
Тут я увидел, как нас крепко охраняют. У каждого вагона там, где нет тормозной площадки, пристроены тамбурки с часовыми. Во время редких прогулок четко ставилось оцепление, хотя никто не помышлял бежать. Не было ни одной попытки. На каждом вагоне появилась тяжелая для сознания зловещая меловая надпись "Спецгруз". Хотя, конечно, люди вокруг знали, что это был за груз. Иногда долетали реплики.
- Бандитов везут!
- Головорезов.
Особенно тяжелыми были стояния в тупиках. Говорить и шуметь не разрешалось, строго наказывали. Иногда томились сутками. Помню такую фразу, сказанную измученной мамой.
- Вот уже около полутора суток, а нас не везут никуда.
Но, наконец Москву миновали. Одно время поезд шел даже в противоположную сторону.
- Нет, нас на Соловки не повезут. - решили люди.
А на другой день движение сменилось резко на восток, и так продолжалось много часов.
- Слушай, на Урал везут - сказал Семеницкий Василий Михеевич.
- Дай, Бог, чтоб не дальше - добавил кто-то.
Поначалу выдавали сухой паек. А потом раз в сутки, в разное время, это было, как правило, на узловых станциях, по два человека от вагона выходили получать баланду или кашу, а иногда и то и другое вместе - холодное варево.
Конечно, этого было мало. Продукты, у кого имелись с собой в узелках, быстро кончились. Воды питьевой от остановки до остановки не хватало. Маленькие дети плакали, те, что побольше, постоянно гундели. Настроение от духоты, от вони, от скученности и голода у всех было подавленное. Поочередно стояли в центре вагона с детишками - все поместиться не могли, поэтому большую часть времени лежали на нарах. Парашу прикрыли тряпками из белья, но стыдоба была жуткая, особенно страдали молодые женщины. И парень был один - очень стеснялся. Одоевский - поляк. Каждый раз просил мать: "Мама, закрой меня".
- Ведь это ад! - сказал однажды, задыхаясь и обливаясь потом, лысоватый дед Метечко. - Не надо его искать, не надо в смоле кипеть!..
Иногда на остановках, не сговариваясь, запевали тоскливые казачьи песни, где обязательно была горькая доля, прощанье с вольной жизнью и смерть. Сквозь рыданья и слезы горестно звучали и песни-молитвы, обращенные к самой высшей инстанции, какую только могут вымыслить люди.
Ой, ты, Боже, милосердный,
Боже щедрый и прещедрый !
Дай нам, Боже,
Дай нам з нэба.
Ой, чего ж нам больше трэба!..
Или
Господи, помоги!
Господи, прости!
Помоги мне, Боже,
Крест мой донести.
Я прошел с любовью
Свой тернистый путь,
Я нес крест безмолвно,
Надрывая грудь...
На одной из стоянок резко постучали в дверь.
- Прекратите петь!
- Товарищи, приоткройте немного дверь, тут женщине плохо - сказал врач Волицкий.
- В лесу в Брянском товарищ! - ответили за вагоном.
А во время одной из нечастых оправочных остановок в поле, около небольшого леса вдруг быстро по команде загнали всех в вагон, задвинули дверь, а у многодетных Бондаренко остался снаружи пятилетний мальчонка. Он потерял свой вагон, бегал, тыкался то в один, то в другой. Гэпэушники подхватили его в последний момент и взяли с собой в пассажирский - штабной вагон. Как же билась в дверь, как стенала мать! Это было невыносимо. Она думала, что он отстал от поезда и пропадает в лесу. а на другой день на остановке, проходя вдоль состава, стали выкрикивать: "Бондаренко!" , "Бондаренко!.." Мужики постучали в дверь. Сразу открыли и посадили Витальку, пристращав, чтобы лучше смотрели.
Мать рада была без памяти. ”А я думала, ты отстал”. - все время повторяла она, заикаясь и нервно дергаясь”.
Чуть позже в вагоне Виталька рассказывал, как его дяди расспрашивали.
- Ты откуда, мальчик?
- Я не знаю - ответил он.
- Почему отстал?
- Детей много, мамке некогда смотреть.
- Сколько у вас детей? Где отец?
- Папки не было.
- Как не было?
- Его забирали. - испуганно ответил мальчик.
- За что забирали?
- Ночью пришли, забрали.
И он заплакал. Охранники положили перед ним куски хлеба и сказали. “Будет остановка, мы тебя отведем в твой вагон”.
Вскоре к Виталику подошел, как он говорил, еще какой-то дяденька и тоже спрашивал.
- Что у вас дома было?
- Две лошади, два бугая.
- Что вы на них делали?
- Возили копны, когда молотили. Хлеб был в копнах. - сказал смышленый малец.
- Молотилка была?
- Нет, не было.
- И ты это помнишь?
- Помню.
- А домик у вас какой?
- Один домик. На полу спали.
- Сколько детей у вас?
- Семь детей - ответил Виталик и попросил пить. Его напоили.
- Чем отец занимался? - опять к нему с вопросом дотошный чекист.
- Пахал землю - вздохнув, сказал малыш.
После этого дали ему старенькую шинель, и он укутавшись, уснул на боковой полке.
За такую долгую и трудную дорогу чего только не было с нами - сказал Филипп Дмитриевич.- Однажды на станции дверь не открывали, а корыто с детской мочой было переполнено. Поезд тронулся, мужики стали дергать дверь и проволока разогнулась, дверь подалась. В образовавшийся проем плеснули мочу, а у самого пути стоял стрелочник с флажком, все вылилось на него.
Немало было на этапе и смертных случаев. На узловых станциях, видимо, в специально дежурившую телегу подбирали трупы.
БУЧА
Места для уничтожения кулачества как класса были выбраны куда как умело.
Верхотурский район Свердловской области - наиболее наглядная модель. На карте он выглядит почти треугольником, но даже Бермудский - прозванье для него слишком слабое. С запада на восток пересекающую его реку Туру плотно обжимали со всех сторон огромные массивы болот с островками хвойных лесов и с темными речками, бегущими в основном с юга на север. В глубине заболоченной тайги по этим рекам были разбросаны отдельные леспромхозовские сезонные бараки и избушки лесников, ориентируясь на которые, было решено завозить спецгруз.
Эшелоны приходили часто, ни охраны, ни мобилизованных у местных жителей подвод не хватало, и поэтому одних, выгружая на станции Верхотурья, везли и вели в своеобразный накопитель - монастырь Семеона Праведного, а других сразу же вглубь, в тайгу, в болота. Вспоминая самые тяжелые мгновенья, дни, месяцы и годы всей акции, каждый из спецов связывали это с тем местом, куда их пригнали после железнодорожного этапа. Но передо мной открылось вдруг таких мест только в одном районе области более двух десятков, и осознанье этого было очень и очень нелегким.
В детстве часто слышал о мертвых спецпоселках: Копанке, Пурегве, Цыганском, Юрьевском, Чернореченском, но разве мог представить себе, сколько беды для наших людей связано с каждым из них. Теперь там чисто и пусто кругом. Ничего на этих местах нет, а где земля повыше, лесные поляны называют верхотурскими покосами. Симпатичные девушки в краеведческом музее охотно рассказывают о подробностях, связанных с мощами Семеона Праведного, о гипотетическом посещении Верхотурьи Григорием Распутиным, когда тот еще был конокрадом, но о том, что происходило в их районе в тридцатые годы, они ничего не знают, да и не хотят знать.
А бывших дербетовцев привезли так.
Сначала долго стояли в Свердловске. Все думали-гадали, куда повезут, на восток или на север? Кто-то даже пытался острить: ” Наверно, повезут обратно”.
Когда, наконец, поезд пошел, быстро определили, что везут строго на север.
Ранним утром следующего дня эшелон разгрузили на безлюдном разъезде со стороны леса. Там были большая поляна и пруд.
-" Неподалеку от нас.- вспоминал Филипп Дмитриевич.- разместились со своим багажом терские казаки: эшелон был сборный, подчищали с периферии края. Женщины у них шумливые, горластые. Начали кричать:
- Нас обманули, Сказали, на сахарный завод повезут, а тут лес!
- Какой тут сахар?! Тут и хлеб не будет расти!
- Пускай обратно везут!
Загалдели, глядя на них, взбаламутились и чернявые, отважные джигиты.
Ребята, не вступайте с охраной в спор, это бесполезно.- попытался урезонить их дед Котляров.- У нас было в Дубовке, бучу подняли, так нам дали духу, с бараков бежали до самой конторы.
- О, вам нравится в этом лесу, а мы не хотим пропадать! - опять застенали терские казачки, обращаясь к своим мужьям, а затем в иступленьи стали рвать подушки, резать перины - повсюду полетел пух.
Прибежал комендант эшелона.
- Везите нас обратно, откуда привезли!
- Обратно везите! - заорали, заголосили бабы.
Комендант пытался говорить, но они окружили его, спустили штаны, кто-то побежал за крапивой. В этот миг с платформы гулко застрочил пулемет, по верхушкам леса полетела щепа, глухо брякали пули. Женщины завизжали, присели, утихли. Буча прекратилась.
Подступила охрана, Выдернули из терцов сорок мужчин и увели в неизвестном направлении. Месяц спустя из них вернулось только двое.
Какое-то время все сидели, как пришибленные. Вскоре подошли подводы, по спискам начали выкликать семьи, грузить скарб, и повезли нас в Верхотурье.
МОНАСТЫРЬ
Довольно известная сибирская река Тура вытекает из среднеуральских болот, поднимается на север, а затем резко поворачивает на восток и впадает южнее Тюмени в Тобол. Так вот, в верховье этой таежной реки, среди болот, озер и бесконечных лесных, преимущественно хвойных , массивов еще в стародавние времена воздвигнуты были на высоком красноватом каменном выступе Святотроицкий собор и кремль, сначала деревянные.
Позже рядом с кремлем возник мужской Никольский монастырь. Ровно через сто лет монастырь приобретает в селе Меркушино мощи святого Семеона Праведного Верхотурского и начинает богатеть, одеваться в камень, а вокруг него вырастает типичный деревянный город-посад Верхотурье.
Этот довольно обширный гибельный для многих людей край, прорезанный с юго-запада на северо-восток Ирбитским трактом и стал местом ссылки наших людей. Правда, официально и по документам ссылка называлась "местом, избранным для жизни". Более издевательской софистики трудно было придумать. "Почему места избранные?"- недоумевали раскулаченные, если их арестовали, повыгоняли из домов и привезли в эти края совершенно против желания? " Если они, эти места кем-то действительно избраны, тогда причем здесь мы?!".
"Наш эшелон был одним из многих, прибывавших сюда через определенные интервалы времени, видимо, по заранее составленному графику.- говорил Филипп Дмитриевич. - Город был в шести километрах от "железки", поэтому доставляли спецпереселенцев, - такое появилось наименование, - на подводах, мобилизованных у местного населения, как и в те стародавние каторжные времена.
- Вас привезли больше, чем нашего народа. - вздохнув, сказал возница, несмотря на строгий запрет - "не говорить с врагами"
Повезли уже поздним вечером, но солнце еще долго висело над лесом, сзади нас. Неба как будто не было, а вместо него какая-то умытая голубая пустота. Это север, вскоре понял я. Здесь летние ночи светлее, совсем без звезд.
Небольшой станционный поселок из казенных и частных домов скоро кончился, дорога дважды обогнула лес, и мы увидели сияющие вдали невиданной красоты храмы. Они величественно возвышались над деревянным серым городом и сверкали золотом крестов, завораживая, волнуя и успокаивая своей холодной омертвевшей красотой.
И когда подъехали ближе, нельзя было оторвать глаз от устремленного ввысь легкого розового от закатного света Свято-Троицкого собора. Верующие истово крестились, шептали молитвы, пригнувшись в телегах с нехитрым скарбом. А при движении по центральной улице Ямской части Верхотурья, впереди вздыбилась и по мере нашего приближения поднималась все выше и выше величественная светлая громада Кресто-Воздвиженского собора, окруженного высокими белыми стенами.
Несмотря на поздний час у многих добротных сибирских домов сидели на лавочках люди, в упор рассматривали нас, порой выкрикивая:
- Рога-то, хвосты-то где у них ?!
- Поди по дороге обломали!.. Вишь, какие усталые.
- Лесной их принес сюда, мать иху за ногу !
- У-у, вражины !
- Пауты да комары зажрут в тайге.
Ребятишки показывали языки, грозили маленькими кулачками, иногда запускали камнями.
Тяжело было все это видеть и чувствовать. А еще тяжелее стало на душе, когда мы поняли, что высокие надвигающиеся стены и дивный, как симфония, собор - наша тюрьма, что везут именно туда.
Так оно и вышло. Монастырь уже до нас был превращен в хорошо функционирующий перевалочно-распределительный лагерь. Сверху по стенам протянута колючая проволока, кругом охрана.
Разместились, кто в кельях монахов, кто в складском помещении, а большинство под открытым небом, соорудив нечто вроде шалаша: гнус все равно заедал, не давал спать целыми ночами.
Постоянно топилась кухня. Там варили баланду и по спискам давали в день по черпаку на человека. В основном подъедали быстро убывающие продукты, привезенные в багаже.
Жуткий был этот табор, если посмотреть со стороны: сидели кучками под стенами, на паперти собора и по всей территории монастыря.
Особенно тяжело было видеть в этих условиях всех возрастов детей /было много грудных/ и стариков. Семьи в основном большие, многодетные- как же они бедовали! Были опухшие дети с опущенными животами и тоненькими, как плети, руками: глаза воспаленные, бредовые, взгляд алчный.
Рядом с нами, у стены сидела многодетная семья тоже с Кубани. Двенадцать детей, мал-мала меньше. Продуктов у них никаких не осталось, все съели в дороге.
Детишки плакали от голода и вшей. Жена просит мужа, умоляет:” Иди, отец, проси, чтоб везли куда-нибудь, уже опухают”.
И он пошел. Дошел до райкоменданта,- появился такой чин,- а тот сказал: “Сиди, Уткин. Куда я тебя - такую ораву - повезу. Может, при городе оставим”.
Так они и сидели, жестоко страдая и ожидая своей дальнейшей участи. А ведь только напоить детей была проблема. В монастыре воды не было. За ворота выходили с охраной, от каждой семьи по человеку.
Шустрая маленького росточка девятилетняя Тамара Уткина за день раз пять выходила с чайником /ведра были не у всех/, чтобы напоить "ораву". Выручала она самых маленьких в семье и кусочками хлеба. Незаметно ушмыгнет от охранников- и айда побираться. Насобирает кусков, а то и в чайнике сыворотку притащит вместо воды. Раза два наливали ей простоквашу. Помню, как она жаловаалась матери:
- Люди обзываются, ругаются.
- Как ?- спрашивала мать.
- У-у, переселенсы !..
- Уходите, леший вас принес сюда нас объедать.
Но вскоре оказалось, что чалдоны не все нас ненавидят, есть и такие, что искренне сострадают.
Эта юркая девчушка, Тамара Уткина обнаружила как-то в одной из дальних стен монастыря нерабочие ворота. Так что она сделала? Подрыла под воротами землю и пролезла на волю. А там выше ее роста крапива. Она пока продиралась, сильно обстрекалась - босая, платьице рваненькое, короткое. Выскочила, плача, прямо к дому вольных. Хозяева увидели ее, завели к себе, спрашивают:
- Откуда ты, девочка? Где ты была?
И она, испугавшись, все рассказала. А в конце добавила.
- Там детки плачут. Их много.
- Сколько? - спросили они.
Тамара показала на пальцах, сложив ладошки, десять и еще два.
Они не выдали ее. Накормили. Какой-то мазью смазали все тело и положили в спичечную коробочку с собой, сказав: “ Придешь к родителям, пусть вечером смажут еще”.
Дали ей два узелка с хлебом, с картошкой и старый чайник с молоком. Подсказали, чтобы палкой раздвигала крапиву.
Чайник под ворота не проходил, пришлось ей подкапывать еще, а потом, продвинув вперед узлы и чайник, влезла сама. Только пролезла, ее сразу увидели люди.
- Откуда ты?
- Где твои родители?
- Не знаю - соврала Тамара.
Подошел охранник. Строго спросил:
- Где ты взяла?
- Люди дали. Тетенька дала.
Он взял ее за ухо и больно скрутил.
- Какая тетенька? Где ты пролезла, говори?
Она расплакалась. Но так ничего и не сказала. Отпустили.
Родители целовали ее, обнимали.
- Где это ты? Как?
Тамара тихонько все рассказала.
Через день она еще хотела пойти, но дыру обнаружили, забутили камнями.
На фронтоне собора, напротив нашего сидения была золотом крупно выбита евангельская фраза, смысл которой я постичь не мог, но она почему-то раздражала: "Радуйся обрадованная во успении твоем нас не оставляющая."
Много-много горя людского пришлось позже еще увидеть и самому отхлебать,- вздохнув, сказал Филипп Дмитриевич,- но более тяжкого зрелища, чем страдающие и умирающие от голода дети первых лет ссылки, не было.
Держали нас в монастыре, пока распределяли и оформляли, чуть больше двух недель, а потом опять на подводах начали вывозить.
Однажды ранним утром, дав возможность быстренько погрузить небольшой скарб, нас с несколькими семьями вывезли за ворота монастыря. Подъехал верхом на лошади маленького росточка комендант ОГПУ и стал выкрикивать по списку : такая-то семья есть? Такая-то есть?.. Затем прочитал "молитву" насчет побега, его последствий, и небольшой наш обоз тронулся.
Миновав город, какое-то время везли по широкому Ирбитскому тракту.
Был конец июня. Кругом высокие сосновые и кедровые рощи. На открытых местах буйно цветущее и дурманящее разнотравье, пенье птиц. Сквозь густой лапник хвои проглядывало нежное радужное солнце, но люди притихли и думали только о том, куда еще, в какие непроходимые дебри и болота завезут?
Через какое-то время резко свернули на узкую лесную дорогу. Калесо телеги наехало на край пня, нас сильно тряхнуло и что-то посыпалось из посуды.
- Вас тут черт припер... - выругался возничий, закончив фразу матерщиной. Но приостановил, дал возможность собрать упавшие вещи.
И тут лес подступил двумя высокими стенами с обеих сторон. Ни солнца, ничего, кроме полоски неба вверху и мрачной тени кругом уже не было видно. Комары и мошка буквально съедали нас. Дети плакали, лица и руки их были в кровяных укусах.
- Во, какие вы сладкие, вас комары любят. - с издевкой пошутил везущий уралец. Никто ему ничего не ответил.
Дорога становилась все хуже и хуже. Местами ее перехватывали болотца с полузатонувшими стланями, приходилось по пояс в холодной воде помогать лошадям выбираться на твердую землю”.
" МЕСТА ИЗБРАННЫЕ..."
“Добирались до места ссылки с утра и до позднего вечера. Впереди шли груженые подводы с проводником и маленькими детьми. Подростки и взрослые брели сзади, кто как хотел. Днем появился овод. Такого слепня, как в Верхотурском районе, ни до, ни после никто из ссыльных не видел. Огромный вытянутый, миллиметров двадцать пять - тридцать он не садился , а как-то неслышно прилипал к телу и невыносимо жалил, будто разрывая кожу. Только когда выходили из леса на открытые возвышенные места, немного отходили от комара и мошкары, а слепни и тут догоняли.
После двух десятков километров люди устали, брели, как обреченные, не зная, долго ли еще идти и куда, в какие чащобы в конце концов заведут? Пытались спрашивать что-либо у возчиков, те молчали, как глухонемые : было приказано, никакой информации не давать.
На одной из подвод плюгавенький мужичишка лет сорока сидел верхами /там меньше гнуса/, раскуривая махру. А когда поранивший ногу лет семи мальчишка залез на телегу, он резко шуганул его кнутом, скверно выругавшись: Иди, ничего тебе не сделается!”
Высокий седой с плечами тяжелоатлета дед Рудь все видел и не выдержал: взял за талию возчика и, легко приподняв, поставил на землю, а на его место посадил пацана. Мужик опешил, потерял дар речи, но увидев, что парень уцепился за гриву коня, засуетился.
- Во, он и править не может, ябена мать!..
- Ничего, она сама пойдет за телегами - спокойно ответил Рудь. И мужик долго и молча шел рядом.
Тяжелый это был более чем сорокакилометровый маршрут с короткими привалами. Проводник поторапливал, чтобы успеть до ночи придти к месту.
Часа в три после полудня вышли к большому таежному селу Прокоп-Салда, раскинувшемуся на высоком левом берегу средней уральской реки. В конце улицы, выходящей на площадь с церковью и каменными двухэтажными домами, стояла полевая кухня. Там всем дали суп с овсяной крупой и по триста грамм хлеба.
Местного народа и ребятишек посмотреть на "вражин проклятых" собралось множество. Что они только ни говорили и ни выкрикивали. Воспроизводить эту матерщину и брань не имеет смысла, тем более, что кое-кто из них через полтора-два года тоже окажутся в стане гонимых и унижаемых людей.
Дальше дорога была лучше, все время вдоль реки Салды. Место открытое, продуваемое - отдыхали от гнуса. Прошли деревни Верхнее Постниково, Злыгостево и где-то к десяти вечера подошли к устью болотной речушки Ромахинке. Там снова свернули в лес и еще километра два брели, выбиваясь из сил, до поселка Ромахинского, состоящего из одного барака и двух лесничьих домиков. Барак был уже перезаселен. Вход один, а справа и слева сплошные двойные нары.
Проводник пересчитал всех и сдал коменданту ОГПУ вместе со списком. Тот, обращаясь к прибывшим, сказал: “Щас помещаться негде. Делайте балаганы, устраивайтесь пока”.
"Все поняли сразу, куда и зачем нас привезли,-продолжал рассказывать Филипп Дмитриевич.-Настроение было отчаянное. Многие женщины плакали. Мать наша тоже вопрошала: “ Ну, за что? За что нас, дети, выслали? Что я им плохого сделала?!.. Что налаживала хозяйство, трудилась с утра до ночи! ”
Усталые ребятишки просили у родителей "исть", "пить", хотели спать. Пришлось шевелиться, устраиваться на ночлег. Назавтра новые спецы узнали,что они на краю Карелинского болота. К нему примыкали еще большие массивы пийских, кокшаровских, махневских и других болот. В пяти километрах от поселка демидовские печи.
Именно в этих местах некогда раскольничьи святые сооружали свои скиты, бродили отчаянные старатели, беглые душегубы, да демидовские рабы в совершенно нечеловеческих условиях "курили" смолу и добывали древесный уголь. Их место должны были занять теперь новые испытуемые на выживаемость, стальной дланью выхваченные из гущи народной жизни, обманутые советской властью люди. И официально называлось все это "избранными для жизни местами".
Два дня дали новым ромахинцам на устройство жилья - балагана, шалаша или землянки, - а на третий приехал верхом на пегой лошади безрукий корявый с саблей на боку райкомендант. Собрали всех, и он, поднявшись на стременах, громко объявил: “Вот ваше жилье. Будете здесь пять лет. А может и всю жизнь. Рубите лес, делайте себе дома, дорогу. Кто вздумает бежать, отловим. За побег штрафная рота. А там особое питание и особая работа”.
Затем составили списки, определили, кого куда: мужчин вверх по речке валить лес, женщин - в другую сторону, косить и убирать сено на заливных лугах Салды.
Открывшаяся перспектива бытия обескуражила, вызвала гнетущее настроение. Еще на этапе, зная, что терской казак Халицкий был пулеметчиком в деникинской армии, но не стал стрелять, когда красные пошли в наступление, его приятели подшучивали, задавая один и тот же вопрос:
- Ну, что ж ты, Федор, не стрелял?
- Чего в своих стрелять. Они же наши, тоже русские.- краснея и смущаясь, отвечал широкоскулый степняк.
И вот теперь кто-то всерьез спросил его:
-А если б ты знал, что такая участь постигнет?
- Тоди, мабуть бы, стрелял - не сразу ответил Федор Матвеевич.
Вечером у костров плакали спецпереселенцы. Это был коллективный вопль отчаянья, тяжелое предчувствие еще большей беды.
Утром вместе с солнцем зашевелились, засобирались, сказали: "Дай, Бог, все будет хорошо!.. “ - и, разобрав инструменты, пошли работать.
Так было задумано во всех спецпоселках района - строить без каких-либо затрат, зарплатами и снабжением не баловать. А что из этого вышло, показали зима и лето тридцатого-тридцать первого годов.
ГОЛОД
Это главная, серединная часть акции, ради которой и были затрачены по тем временам огромные государственные средства, то есть, "собственно уничтожение"- бескровное, постепенное и малозаметное для всей страны. Опыт убийства и сокрытия в уральской тайге у чекистов к тому времени был достаточный.
Кое-какие запасы продовольствия и барахлишко, привезенные с собой, в первую же осень и часть зимы были съедены, а весной начались моровой голод и "падеж".
В некоторых местах поначалу жизнь стала налаживаться неплохо. Так, например, в Ромахино организовали столовую. Кормили супом. По талонам давали семьсот грамм хлеба на душу и сто пятьдесят грамм рыбы /две воблы/ в день. Вскоре пошли грибы, осенние ягоды и другое "подножье".
Среди спецов много было хороших плотников, и как только пошел лес, сразу начали строить двухквартирные дома - шесть на восемь метров - с капитальной стеной посередине. Заселяли в первую очередь многодетных, а затем - у кого балаган послабее и одежды поменьше. До первых морозов перевели в дома почти всех, по две-три семьи в квартиру. Женщины, покончив с покосом, стали рыть ямы для фундаментных стаканов и овощехранилища. Мужчины рубили срубы, яростно пилили доски вертикальными пилами. Спланировали поселковую площадь со школой, амбулаторией и комендатурой. Наметили улицу в шестьдесят домов, больницу тридцать два на тридцать три метра, но зимой все остановилось. Начали давать хлеб не по талонам, а на заработанный рубль. Норму выработки и виды работ разбили на категории, согласно которым давали хлеб,- от килограмма до пятисот грамм, а иждивенцам и того меньше. Столовую закрыли. И пришел голод.
Рассказывали, как ели липовый опил. Добавляя немного муки, делали лепешки. Пробовали березовые опилки, но они оказались несъедобными, после обработки пахли дегтем. Осина горькая и смолой отдает.
Летом варили листья молодой липы, крапиву, лебеду, секли и тушили Иван-чай. Дети собирали на старых пнях и жарили короедов. Однажды троих мужчин гнали с Черной речки в штрафную, так Иван Дорофелов подобрал возле барака убитую крысу и тут же съел сырую.
Отчаявшиеся опухшие люди, несмотря на строгие запреты и возможность попасть в штрафную, - а оттуда почти никто не возвращался - все-таки выходили в деревни побираться, вымаливали крохи со стола местных крестьян. Но в тридцать втором году на Урале тоже "разбомбили" частный сектор, всех согнали в колхоз, и начинался повсеместный голод.
Люди стали лучше относиться к спецам, не материли их, как вначале, если отказывали, то по-доброму.
- Нету ничего. Сами-то голодные сидим.
- И картошки-то мало... - говорили они.
Один из маминых приятелей вспоминал, как босой ходил по деревням, а на сырые шинельные портянки пытался что-нибудь выменять из еды. Подошел к добротному дому с резными наличниками и, увидев хозяйку, обратился: “ Тетенька, три дня ничего не ел, возьмите портянки”.
Она вынесла шаньгу и три картошки, Портянки не взяла.
В другом месте все-таки дали за портянки два килограмма картошки.
Как во сне, говорит, ходил, пухлый был и шум какой-то в голове постоянно.
Несмотря на жесточайший голод спецы стремились выжить, думая о завтрашнем дне. Как только сошел снег, начали корчевать пни вокруг поселка, готовить землю для огородов. Лесозаготовки тоже продолжались, а на корчевке и копке дерна работали в основном подростки и опухшие женщины. Нормы были невыполнимые, но на выработанное давали все-таки хлеб, испеченный из необрушенного овса с соломой, а позже и этого не стало. Грызли корни, жевали мох, но ничто не спасало: каждый день умирало по несколько человек. В вырытую под овощехранилище яму дед Кучеренко свозил покойников и слегка присыпал землей. За эту работу ему давали пайку от коменданта, да подгрызал овес, выписываемый для лошади.
Вместе с Пластуненко в комнате жили еще две семьи. У Евдокимовых маленькие дети. Первым заболел и умер трехгодовалый Борис. Виктору четыре года. Истощенный большеголовый мальчик все время лежал и слабо стонал. А однажды ночью сел и сидит. Потом стал торопливо будить отца.
- Папа, пап, уставай.
- Ты че, Витя? - спросил отец.
- Взбуди маму.
- Зачем ?
- Я буду помирать. Побыстрее маму взбуди.- тихим голосом требовал малыш.
- Что ты, Витя, не надо так говорить.- запричитала проснувшаяся мать.
- Мамочка, я буду помирать.
- Не говори так, маленький! Мы еще поедем домой. Вот увидишь. У бабушки картошки покушаем.
Мальчик с великой жалостью молча смотрел на плачущих родителей, а потом сказал.
- Так что прощайте! - Лег на правый бок и тихо умер.
Мать заголосила. Кто-то зажег светец. В комнате все проснулись. Егор Иванович тоже рыдал, вслух удивляясь: “Ему как кто подсказал что ли? ”.
Утром он сделал гробик, маленький крестик и сам отвез сына на санках, закопал. Мать не могла передвигаться. Через несколько дней тоже умерла.
Бабушка Пластуненко умерла еще зимой, а мать носила почту из Прокоп-Салды и побиралась по деревням. Изредка что-нибудь удавалось принести детям. Только это спасло Филиппа и его сестру от голодной смерти. Сама она почти ничего не ела. Лицо покрылось серым налетом.
"Однажды принесла две коврижки хлеба, - рассказывал Филипп Дмитриевич,- свеклы штук шесть, а к вечеру занемогла, слегла. Поднялась высокая температура, жар сменялся лихорадкой, к ночи начала задыхаться.
Утром вошел староста Мосиенко, - он ходил по всем домам, проверял, кто жив, кто мертв. Мать лежала без сознания. Подошел, раскрыл ей рот, сказал равнодушно: "Дифтерит" - и удалился. К концу дня она умерла. Это было пятнадцатого мая тысяча девятьсот тридцать второго года.
Несмотря на то, что трудно было передвигаться, ноги налились жидкостью, икры лопались, как мог, сделал гроб. Опять пришел староста.
- Померла?
- Да - молвили мы с сестрой, плача.
- Счас Кучеренко приедет, заберет.
Хоть мать была и легкая - кожа да кости,- но мы настолько обессилили, что с трудом вынесли гроб с телом на улицу, поставив его на чурбаки и табуретку.
Подъехал дед Кучеренко.
- Дэ ваша матэ? - спросил он. На гроб даже не обратил внимания, привык возить так, без ничего. На повозке стоял большой украинский сундук без крышки метра полтора длиной, там уже лежало трое детей, да бабка Погребнючка, слегка завернутая в рядно.
- Цэ этого нэ будэ. - возмутился Кучеренко, увидев мать в гробу, - Одну что ли ее повезу.
Пришлось перекладывать в сундук, поверх Погребнючки. Дед приторочил труп веревкой и поехал через поселок.
Мы с Зиной пошли в дом, взяли сотканный бабушкой половик и заспешили на кладбище по верхней дороге.
- Давай скорее. - торопит сестра, а я еле ноги передвигаю, не могу идти.
Когда пришли, дед уже уехал. Мать оказалась сверху Погребнючки. Чтобы не перекладывать трупы, дед механизировал телегу. Ящик выдвигался назад, наклонялся, открывалась торцовая часть, лошадь дергала, покойники разом соскальзывали вниз. В яме запах тяжкий, но мы все-таки вытащили тело матери, положили на половик - изо рта сукровица шла. Завернули ее и стали копать могилу. К вечеру едва управились. Нашел дранку потолще, сделал крестик, воткнул его в свежий холм: “ Если б ты знал, как хочется поехать туда и найти место, где похоронена мать!".. - признался мне с затуманенными слезящимися глазами отдыхающий в профилактории семидесятипятилетний Филипп Дмитриевич.
И на всех местах ," избранных" военными специалистами из ОГПУ именно так начинался основной, кульминационный момент акции. К концу первой зимы тридцатого - тридцать первого года в спецмогильниках осталась большая половина привезенных детей, стариков и взрослых (семьи были многодетными).

В тридцать втором, тридцать третьем годах повсеместный российско-крестьянский голод почти без вмешательства ОГПУ, что называется, на законных основаниях довершил "дело"...
Читать полностью: http://www.proza.ru/2007/09/24/67
Расскажи в социальных сетях:
Там много фактов в про спецпереселенцев, вербованных, вольнонаёмных, раскулаченных и "расказаченных".
Самое ужасное то, что основные планы комиссаров НКВД воплощали свои же люди из народа. А казаки и крестьяне сдавали свои позиции без боя, поверив в обещания. Почему такое произошло?! Как получилось, что одних русских натравили на других?
...Открывшаяся перспектива бытия обескуражила, вызвала гнетущее настроение. Еще на этапе, зная, что терской казак Халицкий был пулеметчиком в деникинской армии, но не стал стрелять, когда красные пошли в наступление, его приятели подшучивали, задавая один и тот же вопрос:
- Ну, что ж ты, Федор, не стрелял?
- Чего в своих стрелять. Они же наши, тоже русские.- краснея и смущаясь, отвечал широкоскулый степняк.
И вот теперь кто-то всерьез спросил его:
-А если б ты знал, что такая участь постигнет?
- Тоди, мабуть бы, стрелял - не сразу ответил Федор Матвеевич.
Вечером у костров плакали спецпереселенцы. Это был коллективный вопль отчаянья, тяжелое предчувствие еще большей беды...

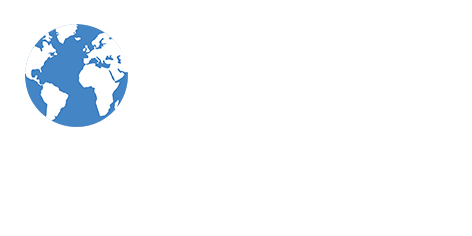

 Меню
Меню