Храбрость и предательство революции
13 сентября 2013
4407
4
Яровитязь
-

Пестрые флаги играли, трепетали на кормах и на мачтах: немецкие, французские, итальянские, английские, шведские, аргентинские, парагвайские, какие угодно; не было только Русского флага…
Права была Лиза в своем жестоком приговоре: России не было. Не было у Лизы Отечества.
Но, когда безшумно проносился пароход мимо «Бремена», и увидала черную свастику на белом фоне на алом полотнище флага, — знак вечного движения, непрерывного прогресса, ощутила, как теплая волна залила ее сердце… Родина!..
Это было самое страшное, невероятное время жизни Акантова Кое-кому из молодежи оно нравилось. Совсем недавно, перед отъездом в Берлин, в Галлиполийском собрании, разговорился Акантов с одним из участников гражданской войны, восемь раз раненым, произведенным за храбрость в генералы, и совсем еще молодым.
— Ничего так не хотел бы, как снова пережить это время гражданской войны, — сказал тот.
— Ну, что вы, — сказал Акантов — Да, ведь, это был сплошной, невыразимый ужас. Драться со своими. Брат на брата! Последнее дело!
— И, полноте, Егор Иванович Брат на брата? Китайцы, накурившиеся опиумом, пьяные латыши, интернациональная рабочая сволочь, мне, честному Русскому человеку, — не братья. Никак не братья. Они шли разрушать Россию, разорять Русскую культуру, грабить население, насиловать женщин, надругаться над верой во Христа. Я все это защищал и отстаивал. И, если для этого нужно было убивать — надо было и убить… без сожаления, без содрогания. Брат или не брат, вооруженный или безоружный, — они были врагами моей Родины, и кончено… Ведь, и меня они могли убить сколько раз… Тут сентиментализма быть не должно.
Акантов смотрел на большое, круглое лицо собеседника, на его могучие, широкие плечи, на всю его приземистую фигуру, и вспоминал его прошлое, всю его необыкновенную добровольческую карьеру. Мальчиком-гимназистом, не умеющим зарядить винтовку, пристал он к добровольцам Кутепова, еще в Ростовские начальные дни, а кончил карьеру у Врангеля, в Крыму, начальником боевой дивизии, прославленный за свою храбрость и непобедимость. Одно время Акантов, — старый, кадровый полковник, георгиевский кавалер, отличный боевой офицер, — был под его начальством, Только в Наполеоновские времена возможны были такие головокружительные карьеры.
— Но, кроме этих, — сказал Акантов, — были и обманутые Русские мужики и солдаты. 1
— Не жаль мне и их. Обманутые? Нет, Егор Иванович, с хитрецой мужички и солдатики стремились туда, где бы больше получить и шли на нас, как огромное стадо баранов, как серая вошь. Шли с белыми лицами, с безумием горящими глазами, и, если побеждали, то, простите, самые гнусные вещи выделывала с нами эта серая вошь, а когда попадала она в плен — козыряла нам, низкопоклонничала, подхалимствовала перед нами, до первого случая изменить и предать. Я научился здесь презирать Русский народ-богоносец.
— Не все же были такие?
— Да не все. Те, кто не был таким шел к нам… И с нами шла слава… Слава! Какая это была слава!!. Помните Егор Иванович дивное, знойное лето 1919-го года. Шли на Москву. Города с налета брали. Женщины девушки все в белом. Ажурные зонтики — белые… Белые шапочки гимназисток, точно ландыши лесные, и… цветы… Откуда брали столько цветов?.. И все белое. Подлинно — белое было движение… Вот и теперь, как вспомню эти времена, точно чувствую, обоняю запах чайных роз. Огромный их букет стоит в белом фаянсовом кувшине. Тишина спальни, спущена занавеска и колышется на утреннем ветру. Тело, после похода, точно избито, ноет от усталости; кожа пластами сходит с лица от солнечного загара. Перед этим — неделями ночевали в поле, в степи, на голой жесткой земле, провоняли потом и кровью, и вдруг под тобою мягкая постель. А как нас, прожженных солнцем, залитых потом и кровью, любили женщины! Я думаю, такой любви никогда раньше не было, и не будет… В каждом городе, где мы останавливались хотя на десять дней, сколько браков заключалось… Девушки, едва со школьной скамьи, венчались с нашей молодежью… Как прекрасны и трогательно нежны были они в подвенечном платье, покрытом флер-д-оранжами, свежие, чистые, невинные, — а, глядишь не пройдет и месяца, уже идет эта самая барышня в черное платье вдовы, с длинной креповой вуалью на шляпе, за телегой с дощатым гробом, привезенным верным солдатом, а от гроба тянет сладкой вонью трупа и крови… Какая неповторимая романтика была в этом, Егор Иванович! Мы ходили в атаки, не ложась, не стреляя и не сгибаясь, неся винтовки на ремень. Мы побеждали одним видом своей непобедимости! Нас боялись, потому что мы не боялись… Э!.. Что, смерть? .. Смерть красит подвиг!.. Не было бы убитых и раненых, и подвига не было бы!.. Смерть боялась нас и отступала перед нами… Мы, юноши, шли с вами, стариками. Мы, юноши, вели за собою, увлекали вас, стариков… Какие геройские подвиги были… Какие герои!.. Убиты?.. Что же? Таков их удел!.. Полк сто раз менял свой состав, а дух полка оставался… Мы перевернули все ваши понятия об опасности. У нас тот не командир полка, кто не идет впереди цепей. Иные и верхом ездили… По-Скобелевски! У артиллерии не было закрытых позиций и ложементов для прислуги. Наши батарейцы шли с нашими цепями… Что?.. Пулеметный огонь?.. Пачки?.. Картечь бывала ответом!.. Смерть?.. Ерунда! Смерти нет, есть победа!.. Вы помните Егор Иванович, полковника Белоцерковского? Нашего командира батареи?.. И с ним — Магду Могилевскую. Вот еще подлая баба оказалась… нечто сверхъестественное… Кажется, встреть я ее, — задушу своими руками…
Вот это почему-то вспомнилось теперь Акантову, это подсказало его подсознание, и понеслись воспоминания об этом пожалуй, самом страшном из всего пережитого в эти ужасные годы гражданской войны…
XIV
Наступали на Курск. Проходили через Русские деревни. Мягкий малороссийский говор сменился распевным Русским языком. Пошли большие села с каменными церквами. Кое-где остались еще не пожженными помещичьи дома, окруженные тенистыми березовыми и липовыми старыми садами. Гуще стала сеть железных дорог. Еще сильнее стала романтика необычной войны.
Уборка хлеба приходила к концу. Уже навивали золотые скирды. Лазоревыми стаями вспархивали с них голуби. Скрипели колесами тяжелые телеги, запряженные лошадьми, и ярки были красные юбки и белые платки крестьянок на возах с хлебом… Подле сел стрекотали молотилки. Дымила высокая черная труба локомобиля, и издали доносился угарный дым угля.
И, рядом, шла жестокая, непримиримая война. Земля дышала зноем. На широком шляхе черноземная пыль часами стояла после прохода войск. Ехали на тачанках, на телегах, стремясь догнать опрокинутого, отступающего неприятеля. На деревенских площадях ветер завывал пыльные смерчи, гнал пучки соломы, клоки сена, листки газетной бумаги. У колодцев толпились люди. Бабы и девки спешили услужить «солдатикам», с тоской и надеждою заглядывая в темные, загорелые лица юношей.
В эти дни наступил перелом боев. Счастье изменило добровольцам. Подлинно, как несметная полоса серой ползучей, кишащей вши, появлялись на горизонте густые цепи мобилизованных крестьян, гонимые пулеметами политических комиссаров, красных курсантов и отрядами интернациональной сволочи. Красные части были густо прослоены коммунистическим быдлом из городских хулиганов, по местному — «ракла», которым нечего было терять. В занимаемых городах смердело трупной вонью. В подвалах чрезвычаек находили изуродованные тела замученных невинных людей. Жители встречали с пустыми от ужаса глазами. Женщины хватали за руки добровольцев и разсказывали об изнасилованных толпами красноармейцев девушках, сошедших сума, покончивших с собой самоубийством. Они шептали сухими губами, и страшен был их шепот:
— Вы уйдете?.. Уйдете?.. Покинете нас?.. Скажите?.. Если вы уйдете, и мы уйдем… Что же нам делать? Нам нет спасенья…
В эти жуткие дни Акантов отправил свою жену с маленькой Лизой в Крым… Лиза этого не помнит…
Полк Акантова в эти дни пробивался к железной дороге… Бой начался с утра. В утреннем тумане, шесть раз поднимались на золотистом жнивье серые густые цепи красной армии, маячили вдали, качаясь, как марево. Угрюмый, нескладный вой «интернационала» доносился с теплеющим ветром. Красноармейцы подходили на тысячу шагов, и здесь,встреченные огнем винтовок и пулеметов, разрывами шрапнелей, залегали. Потом откатывались назад, за хребтину длинного холма, и отлеживались в овраге, готовя новое наступление.
Когда наступали в шестой раз, к Акантову подошел командир восьмой роты, высокий, стройный капитан, с георгиевским крестом, в Великую войну заслуженным. Его глаза горели огнем безумия:
— Это Русские, — сказал он хриплым, усталым голосом. — Вы же видите, господин полковник, что это Русские! У них скатки через плечо!
Встретив недоуменно вопросительный взгляд Акантова, он дико закричад, точно залаял:
Не немцы, не австрийцы… не венгерцы!.. Не турки!.. Русские!.. Русские!.. Я не могу по ним стрелять…
Он резким движением выхватил револьвер из кобуры, приложил к виску и раздробил себе череп…
Не все могли вынести ужасы гражданской войны.
Под вечер, против левого фланга полка Акантова, где была двенадцатая рота, самая мелкорослая и слабая, составленная из детей, гимназистов и кадет, показалась красная кавалерия.
Она появилась из-за недальнего селения, где днем крестьяне молотили хлеб, и где, по донесениям дозоров, все было мирно и покойно.
Акантов услышал отчаянные детские крики:
— Кавалерия!.. Кавалерия!.. Слева кавалерия!..
«Червонные» казаки, с диким, леденящим душу гиком, низко нагнувшись к шеям лошадей, неслись на двенадцатую роту. Они были освещены заходящим солнцем сзади, и их длинные тени неслись впереди их, и казались, потому они огромными и не похожими на людей. Не детской, незакаленной в боях душе, было выдержать их появление. Ротный командир, старый полковник, успел загнуть роту, и Акантов, спешивший туда, слышал, как отчаянно громким голосом, тот командовал:
— Прямо по кавалерии… Постоянный… Пальба ротою!.. Р-рот-та пли!
Вместо залпа, раздалось два-три выстрела, и несчастные дети кинулись бежать врассыпную. Красные казаки их сейчас же и настигали. С лютой бранью, с улюлюканием, с дикими криками, еще более устрашающими бегущих, они рубились наотмашь. Красным огнем взблескивали лезвия шашек, и после каждого удара на поле падала маленькая серая фигурка, как падает трава под косою в сенокос…
Полку Акантова грозила катастрофа.
Но уже мчалась галопом батарея Белоцерковского. Добровольческая артиллерия всегда умела жертвовать собою в критические минуты боя.
Звон орудий, снимаемых с передков, топот коней, прислуга на руках катит пушки в цепи, ежесекундно падают люди — и… без команды: все офицеры, каждый знает, что делать, — три очереди по красной кавалерии «на разрыв». Дым низко рвущихся шрапнелей, проклятия, дикий рев, угрозы… И видно, как в дыму падают лошади и люди… Когда вечерний ветер прогнал пороховые дымы, стали видны, уже у самой деревни, скачущие туда казаки… Грозным громом орудийных залпов их проводила батарея. Потом все стихло. Наступил теплый, летний вечер. Сбитый с позиции полк Акантова отошел в овраг. Офицеры приводили его в порядок. Противник, как говорится, «не проявлял активности». Напряженно немая тишина стала кругом. Акантов послал разведчиков к станции железной дороги и сам пошел за ними.
Солнце село. Зловещая красная полоса заката протянулась над полями. На ней черными тенями стали обрисовываться далекие постройки железнодорожной станции и поселка при ней.
На сжатом поле, в безпорядке, среди соломенных снопов, лежали порубленные дети. Ни один стон, ни один крик о помощи не раздавался на поле, дети были поражены на смерть. От плеча до поясницы - развороченные людские тела, с вывалившимися внутренностями, со снесенными черепами, с лицами, залитыми кровью и мозгами, и, среди них, мальчик со снежно-белым, чистым, ничем не замаранным лицом, с тонкими чертами, с закрытыми глазами, точно уснувший среди страшного хаоса боя. Он умер от одного испуга… Он показался Акантову страшнее всех…
Полковнику, командиру роты, красные успели засунуть в рот сорванные с плеч погоны, и, разорвав мундир, жестоко надругаться над телом. Подле лежало пять убитых казаков. Как видно, не дешево продал свою жизнь старый полковник…
Молча проходили по полю разведчики. Многие сняли фуражки и, боязливо косясь на тела, крестились. У командира роты вынули изо рта погоны и, сняв мундир, прикрыли им тело.
Летняя ночь спускалась на землю. Тишина вдруг нарушилась грохотом v лязгом подходящего поезда. Со станции стали доноситься крики и звуки музыки. Красные праздновали победу.
XV
В отсутствие Акантова, к его полку приехало начальство. Начальство было лет на двадцать моложе Акантова. В Германскую войну, когда Акантов был полковником и командовал полком, его теперешние начальник окончил ускоренные курсы, и прапорщиком явился на войну. В Добровольческую армию он пришел одним из первых, уже в чине штабс-капитана, не колеблясь, вступил в ряды, заразился ее наступательным духом, а там — храбрость, безудержное стремление всегда вперед, везение сто раз смерть прошла мимо и ни разу не зацепила. Быстрое продвижение по ступеням военной иерархии.
Акантов этим не возмущался. Они, «старики», искушенные большим опытом Великой войны, здесь не гордились. Они наступали, окапываясь, у них лопата была родною сестрою винтовки, они стремились к охватам и обходам, они хотели побеждать по Петровскому завету, «малой кровью», и, заняв пизицию неприятеля, они окапывались, застывали на месте, ожидая подвоза снарядов и патронов, организуя тыл. Им нужно было интендантство, артиллерийское и инженерное имущество, вся трудная и сложная система снабжения.
Здесь все было по-новому, по-молодому… Охваты и обходы, «малая кровь», почитались трусостью. Лобовая атака проще, короче и скорее… Нет патронов и снарядов — возьми их у неприятеля… И брали — целыми вагонами, артиллерийскими парками снабжались за счет большевиков. Нет обмундирования, не хватает продовольствия и фуража — бери у населения: война должна питать войну. Население должно кормить и одевать армию…
Акантов считал объектом войны — живую силу противника, его армию, и, и,основываясь на этом, разсчитывал свои операции, считаясь с железными дорогами, как средством подвоза и передвижения. Здесь — брали города… Сегодня Воронеж, там Харьков, Полтаву, Чернигов, Курск, Орел… Шли на Москву. Москва, а не красная армия, была задачей войны. Новая стратегия и новая тактика, созданные этими смелыми людьми, были уже не под силу Акантову и ему пришлось смириться и не считаться ни годами службы, ни боевым опытом, ни чинами…
Начальство стояло в группе офицеров, и, когда Акантов спускался к оврагу, он услышал громкий голос начальника и дружный смех. Начальник был большой балагур, умел в критические минуты, когда казалось, что все пропало вовремя пошутить и отмочить соленый солдатский анекдот. Умел он и распушить, не стесняясь ни годами, ни чинами виновного.
Небольшого роста, приземистый, плотный, сытый, гладкий, крепкий, с большой круглой головой на короткой шеей, с фуражкой на затылке, красивый лицом, он издали увидал сухощавую фигуру Акантова, узнал его по походке, и резким начальническим тоном крикнул:
— Полковник Акантов, где вы изволили пропадать?.. Отчего вас нет при полку, когда я приехал?..
И в тоне голоса начальника, и по тому, что безмолвно вытянулись офицеры, Акантов понял, что за этими словами скрывался упрек в трусости, незнании своих обязанностей, в том, что в ответственную минуту командир покинул свой пост.
Я ходил на место конной атаки противника и посылал разведку к станции. Мне нужно было отдать распоряжение об уборке убитых.
— Могли для этого послать офицера-с!.. Ваше место всегда при полку-с. Тем более, при таких тяжелых обстоятельствах. Небывалая вещь, чтобы добровольцы повернули перед этой сволочью… Что у вас произошло с вашею двенадцатой ротой? Где она, полковник Акантов?
— Рота, как вам известно, состояла из детей. На нее внезапно выскочила конница…
— Х-ха!.. Внезапно! Великолепно!.. Откуда это — внезапно?..
— Из того селения. Оно нам казалось мирным.
— А где была ваша разведка-с? Где-с?.. Почему не обшарили селения-с?
Акантов знал, что это была вина самого начальника дивизии. У Акантова не было при полку ни конных разведчиков, ни велосипедистов. Но Акантов был старого закала офицер. Он промолчал.
— Куда же девалась ваша двенадцатая?.. Где она-с?..
— Она там… — махнув рукой в сторону поля, с большой печалью в голосе сказал Акантов.
— То есть, где это там?.. Выражайтесь, полковник, яснее.
— Она, ваше превосходительство, вся до одного полегла, ибо, поддавшись панике, она побежала, а убежать от карьером несущейся конницы не могла. Все шестьдесят восемь человек, вместе с командиром роты пол!ковником Тесаковым, изрублены.
— Хор-р-роший, говорят, офицер был!..
— Отличнейший, ваше превосходительство. Георгиевский кавалер за Великую войну…
— Жаль…
— Всех жаль. Детей, особенно, жаль… Чем они виноваты…
— Как это, чем виноваты?.. Зачем бежали?.. Трусость всегда бывает наказана. Я даже и представить себе не могу, как это конница может изрубить пехоту?.. Хорошая пехота…
— Хорошая, ваше превосходительство…
В овраг спускался разведчик. Он шел усталой походкой, запыхавшись, торопился, шел из последних сил, чтобы сообщить что-то важное… Заметив и узнав начальство, он направился к нему:
— Ваше превосходительство…
— Ну-те-с?..
— К железнодорожной станции, с час тому назад, подошли два поезда. Один — броневой, другой — агитационный, он весь в красных плакатах и флагах.
— Сами видели-с?..
— Я был на станции, ваше превосходительство. По-видимому, приехал какой-то театр. Там такой тарарам пошел, гармоника, песни, шум, смех, галдеж… Часовых нет. Сторожевое охранение не выставлено. Я думаю, там будет ночью большое, пьянство, и их можно будет захватить безнаказанно…
— Что вы думаете, поручик, мне-то мало интересно, а за вашу разведку спасибо большое вам.
— Рад стараться, ваше превосходительство.
— Пожалуйте, господа, за мной, — сказало начальство, и стало подниматься из оврага.
Артиллерийские, замученные, лошади, опустив до земли головы, хрустели сеном, подкинутым к их ногам. Пахло разжеванной полынью, дегтем постромок, кожей, сладким запахом конского пота. Ездовые лежали на земле и спали крепким сном. Фейерверкер сидел после своей оседланной лошади. Папироса попыхивала в его зубах. Махорочный душок свивался с запахом лошадей и сена.
Из темноты несся голос начальства:
— Во всем, господа, люблю пулеватость и смелость. Мы — добровольцы, у нас нет отступления. Мы боремся за великое и святое дело. Мы не считаем врага. Грустно, конечно, что побили двенадцатую роту, но унывать не станем. На то и война… Бодрость, бодрость прежде всего… Атаковать будем молча. Окружая станцию подковой… И без выстрела… И без всякого там — ура… Не нужно-с… Излишняя музыка-с… И попрошу не курить и не кашлять .. За наших убитых они заплатят вдесятеро… Полковник Акантов…
— Я здесь, ваше превосходительство.
Когда вышли из оврага, темнота окружила. Сильно, по-осеннему вызвездило. Вдали красным дымом курилась станция, с ее станционными огнями, семафорными фонарями и множеством костров. Оттуда чуть доносился гомон многих людей, и чудилось, что там раздается грубый, неистовый смех…
Наступали длинною цепью, окружая станцию, как на облаве. Шли неслышно. Люди скользили по жнивью, обходя снопы, убитых лошадей и красных казаков, минуя селение. Шли так сторожко, что ни одна собака не залаяла…
Пять верст шли, не останавливаясь.
Когда в мутном красном свете костров стали видны вагоны товарных поездов, серые громады броневого поезда и толпа на станционном дворе под высокими тополями, когда слышна стала гармоника и женский голос, певший задорную частушку, часовой-красноармеец, вдруг появившийся в поле испуганно окликнул:
— Кто идет?.. Товарищ, это вы?..
Никто не ответил. Глухо ударил приклад по черепу, и, как тяжелый куль, мягко свалился на землю часовой.
Цепь побежала, все скорее и скорее, с разных сторон врываясь на станцию.
Тогда раздались первые безпорядочные выстрелы, им ответил грозный треск ручных гранат. Впустую, лишь на минуту оглушив, грохнуло орудие с броневого поезда, снаряд полетел далеко в степь и там разорвался. Паровоз зашипел, пуская пары, пытаясь тронуться, но добровольцы уже вскочили на него и метали гранаты по вагонам. Несколько мгновений было шумно, гaмно, грохотали гранаты, стреляли из ружей, раздавались крики, трудно было разобрать, что происходило. Сзади, позванивая орудиями, на рысях подъезжала батарея Белоцерковского, — впереди была площадь, ярко освещенная керосинокалильными фонарями, и на ней толпа в серых рубахах. Люди стояли с белыми лицами, с поднятыми кверху руками…
На путях были вагоны с открытыми боками, обращенные в сцену: красный кумач флагов, ярко освещенный сзади, полыхал, как огненные языки.
Несколько добровольцев вели на площадь высокую женщину в костюме Русской боярышни. Белая шапка-колпак, расшитая стеклянным жемчугом, была надвинута на брови. Набеленная, нарумяненная женщина безпокойно оглядывалась большими черными глазами. Она показалась Акантову привидением. Она искала кого-нибудь, к кому обратиться за помощью. Молодежь была настроена к ней явно недоброжелательно.
— Артистка! — раздавались голоса. — Артистка! Тем хуже!.. Поднимали настроение этой сволочи, чтобы лучше дралась она против нас!..
— Образованная!.. Понимать могли бы, что делаете?..
—Таких без пощады вешать надо на фонарных столбах!..
— Позор Русской женщины!..
— Тем что?.. Тех гонять, они не понимают, что делают, а вы понимать
должны, с кем вы связались…
— Стерва!..
— Дрянь собачья!..
Акантов поспешил на выручку. Каждую минуту мог совершиться самосуд. Акантова обогнал полковник Белоцерковский. Он вгляделся в лицо женщины, и, протягивая ей обе руки, быстро пошел ей навстречу:
— Магда!.. — воскликнул он.
Был необычайно мягок и тепел его голос:
— Магда!.. Но, какими же судьбами?.. Оставьте ее, господа. Я знаю, кто она. Это же наша гордость: артистка Магдалина Георгиевна Могилевская. Ее слушал и ценил сам Государь.
— Спасибо, Николай Иванович, — сказала, освобождаясь из рук молодежи, женщина. — А то ваши юнцы совсем, было, собрались меня вешать… Как же мне было пробраться к вам, моим милым и родным «белым», как не примкнув к труппе агитационного поезда? И как это прямо-таки чудесно вышло, что именно вы, Николай Иванович, меня освободили…
— Господа, — сказал Белоцерковский, — прошу на меня не обижаться. Я беру Магдалину Георгиевну на поруки. И, по праву войны, прошу считать ее моей добычей. Я вам ручаюсь головою, что Магда Могилевская не могла быть большевичкой, и что все так и произошло, как она говорит…
Белоцерковский подал руку Могилевской и повел ее к батарее. Никто ему не препятствовал. Слишком любили в отряде Белоцерковского и эго батарею, слишком все было необычно, и так много дела было еще впереди…
XVI
Ночь сползала. Медленно линяли краски. Небо розовело на востоке. Свет керосинокалильных фонарей был больше не нужен. На первом пути стоял большой восьмиосный вагон, ярко размалеванный картинами и плакатами. Наверху было изображено красное восходящее солнче с пестро накрашенными лучами. Над ним по дуге шла надпись: «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Под солнцем, более мелко, было написано: «Агитационный вагон политотдела армии южфронта». Посередине вагона, в пестрой раме, был намалеван земной шар, перевитый алой лентой с той же гордой надписью о соединяющихся пролетариях всего мира… Там были измалеваны и огромные буквы: «РСФСР» - «Российская, советская, федеративная, социалистическая республика», - горделивый герб советского союза, охватывающего весь земной шар. По сторонам сцены, устроенной в вагоне, были изображены избы и в них - счастливая жизнь, крестьян под властью советов. Часть этих картин была ободрана, вероятно, в пору захвата станции, и висела жалкими обрывками. Все это напоминало плохой ярмарочный балаган.
На площади лежали тела убитых красноармейцев и стонали, еще не перевязанные раненые «красные». Нисколько подальше, в стороне от станционной постройки, под высокими тополями и акациями, окружавшими станционный двор, серой толпой стояли и сидели пленные красноармейцы. Жидкая цепь часовых добровольцев их окружала. Отдельно от них, в углу у пакгауза, были собраны матросы броневого поезда. Их охранял более сильный караул. Все это были крепкие, рослые ребята, в пестрых голландках и широких штанах, с лихо заломленными на затылок матросскими фуражками с алыми лентами. Это был народ прожженный, прошедший огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы, лохматый, курчавый, наглый и самоуверенный. Видно было по всей их повадке, что им и самая смерть не страшна…
У шляха, выходившего со станции в степь, сбоку, на стерне сжатого поля, в колонне поорудийно стояла батарее Белоцерковского. Прислуга спала подле на поле, на земле, крепким утренним сном. На самом шляхе были собраны подводы, и люди Акантовского полка сносили на них винтовки и пулеметы, взятые у пленных. Характерный треск небрежно кидаемых на подводы ружей доносился оттуда на двор.
Рассвет надвигался. Еще не было теней, но предметы яснели и ширилась даль.
С тыла на площадь прискакал комендант корпуса, полковник Арчаков. Он спрыгнул с лошади, бросил поводья сопровождавшему его Кубанскому казаку, и пошел к полковнику Акантову. Арчакова сопровождал на тачанке его адъютант, поручик Гайдук. Об Арчакове Акантов знал, что он без ошибки угадывал коммунистов, а про поручика Гайдука только слышал, что тот является исполнителем смертных приговоров над коммунистами и предателями. Он его еще никогда не видал. И теперь Акантов всматривался в лицо этого человека, взявшего на себя самую трудную и тяжелую обязанность - казнить коммунистов. Это был небольшого роста, крепко сбитый, офицер, с опухшими щеками и глазами в красных бровях, бритый, в чистом кителе и шароварах «галиффэ» пузырями, в обмотках на толстых и тугих икрах. Что-то не офицерское было в нем. Арчаков подошел к Акантову и сказал ему:
— Пойдемте, полковник, посмотрим на эту сволочь. Он пошел легкой походкой, похлопывая себя по голенищам запыленных сапог дорогим стиком.
Пахло землею, пылью, сухим, погорелым на солнце, листом акаций, и нудно воняло людскими отбросами и порохом ручных гранат. Пахло войною. Офицер, бывший при пленных, скомандовал:
— Смирно!.. Встать!.. Ну, вы, там, красная армия, поворачивайся… Вставай. Нечего буржуев изображать…
— Становись!.. Равняйсь!..
Пестрые ряды подравнялись, разбились на неровные взводы, стали подобием колонны.
Серые от безсонной ночи, от испуга, от усталости, землистые, голодные лица мобилизованных крестьян и бывших солдат повернулись к подходившим к ним офицерам. Резко между ними выделялись фигуры в кожаных куртках, в штатской одежде, с бледными, жесткими лицами, с прямым, смелым взглядом. Знакомое Акантову было смешение людей в толпе, захваченной тисками гражданской войны.
— Смир-рна!..
Арчаков, высокий, тонкий, щеголевато одетый, выправленный, надменный старый барин, в цветной фуражке, аккуратно надетой на лоб, в пенсне без оправы, крепко сидевшем на его тонком породистом носу, со свеже побритыми блестящими щеками, морщась от дурного запаха, шедшего от красноармейской толпы, медленно подходил к пленным. В нем была подтянутость и напряженность охотничьей собаки, почуявшей дичь и готовой сделать стойку. Солнце брызнуло первыми, золотыми, слепящими лучами. Оно осветило лица пленных, их серые, рваные рубахи, плохие штаны, пеструю обувь. Щурясь от солнца, красноармейцы смотрели на подходивших офицеров, «золотопогонников», с тупым подобострастием; они были готовы исполнить любое приказание. Лишь на некоторых лицах была угрюмая злоба, погасившая страх и полная презрения ненависть.
Комендант остановился в десяти шагах от колонны пленных. Солнце, отбросило от него и сопровождавший его людей длинные тени. Играя стиком, комендант смело и решительно приказал:
— Коммунисты, выходи!
Никто не шевельнулся. Напряженное молчание и тишина были на площади. Лица одних стали еще подобострастнее, у других еще страшнее стала злоба и ненависть в глазах, и темные желваки заходили над скулами.
— Ну, как хотите, — негромко, но далеко слышным голосом, сказал комендант и с легкой усмешкой пошел к правому флангу колонны.
Он остановился против худощавого парня с темным лицом, покрытым щетиной небритой бороды и с узкими глазами, исподлобья глядевшими на офицеров, и сказал уверенно и твердо:
— С какого года в партии?..
Угрюмый человек повел плечами, тяжело вздохнул и молчал.
— Да ты, товарищ, не стесняйся. Я тебя насквозь вижу. Луганский?.. Злые глаза опустились к земле.
— С какого года?..
— С 1914-го, — рывком, со злобой, выплюнул тот.
— Выходи!
Конвой, следовавший за комендантом, схватил вышедшего и толкнул его в сторону. Арчаков пошел дальше.
— Коммунист?..
- Ваше благородье, — кричали сзади, — это ж Файнштейн… самой он коммунист. Он нас и мутил супротив вас идти, и Ягодка с ним, вот он, Ягодка, третий с флангу стоить — обои коммунисты. Выходи, брат, Ягодка, чего там бузу разводить, братву подводить. Он, Ягодка-то, ишшо когда, в Царское время, при Государе Ампираторе, этим самым на заводе занимался…
Быстро и легко шел отбор. Ловкая, хорошо пригнанная одежда, кожаные куртки, добротные сапоги, злые лица, угрюмо сосредоточенные, безнадежные, выдавали коммунистов.
Комендант остановился против невысокого, длиннорукого парня, неуклюже одетого в солдатскую шинель. У него были курчавые черные волосы, и бледное, смертною бледностью покрытое лицо, с большими, умными черными глазами. Глаза эти то загорались мрачным огнем, то погасали, и тогда лютая тоска была в них.
— С какого года? — касаясь стиком груди задрожавшего мелкою дрожью человека, спросил Арчаков.
— Ни с какого, — последовал быстрый ответ. — Никогда в партии не был, и всею душою сочувствую добровольцам.
— Вы его, братцы, знаете?.. Красноармейцы загудели:
— Вовсе мы его не знаем…
— Никогда такого не видали…
— Откеля взялся, приблудился, не знамо, не ведомо…
— Он и на человека не похож…
— Чистый жид…
— Какой-сь то, кубыть, из скубентов…
— Ночью к нам откуда-то втиснулся…
— Наша рота пестрая, всего третий день из деревни… Мы билизованы вовсе недавно…
— Ты кто такой?
— Артист.
— И коммунист, конечно?..
Спрашиваемый пожал плечами. По его опухшему, белому лицу текли крупные капли пота:
— Ну, когда вы лучше моего знаете…
— Фамилия?..
— Бродский.
— Громкая фамилия!.. Выходи!
— Бож-жа мой!.. Да зачем я буду выходить, когда я вовсе ни в чем не виноватый? Ну, они тоже забирают. Они с ружьями, с наганами, разве я могу какое сопротивление оказывать?.. Какой я коммунист? Я даже, может быть, такой же коммунист, как и вы…
— Выходи!..
— Господин полковник! Да зачем так?.. Так, ведь, вы же белые?.. Должна же у вас быть справедливость? Вы не большевики какие-нибудь?.. Вы спросите госпожу Могилевскую, так она вам скажет, чи я коммунист, чи нет?
Арчаков еще раз внимательно, с головы до ног, осмотрел Бродского. Он колебался. В этом некрасивом, нескладном еврее не было той трусливой наглости, по которой он угадывал, всегда без ошибки, коммунистов… Большие, черные, с поволокой, глаза, южные, томные, смотрели с мучи¬тельной мольбой, и была в них какая-то уверенность в своей правоте. Эта уверенность подкупала, располагала Арчакова к Бродскому.
— Хор-рр-шо, посмотрим!.. Отведите этого субъекта в сторону, а вы, поручик, попросите сюда эту артистку, она находится в крайней хате, где командир батареи…
Уже окончен был отбор коммунистов, когда на площадь, сопровождаемая Белоцерковским, пришла Магдалина Георгиевна. Она успела переодеться в дорожное платье и, вместо шляпки, была по крестьянки повязана белым платком. Акантов невольно залюбовался ею, и заметил, что, как только Могилевская увидела отдельно стоявшего подле часового Бродского, она побледнела сквозь румяна, и безпокойные огни загорелись в ее прекрасным глазах.
— Простите, милостивая государыня, — официально сухо обратился! Арчаков к Могилевской. — Вы изволите знать этого индивидуума?..
Он подвел Могилевскую к арестанту. Они стояли в углу двора, в длинной тени от пестрого вагона с плакатами.
Прекрасное летнее утро наступило. За станцией раздавались веселые голоса добровольцев. Воробьи чирикали в кустах жимолости станционного палисадника. Со шляха доносился железо-деревянный треск кидаемых ружей, и кто-то молодым, мальчишеским голосом, кричал:
— Девятьсот семнадцать… Здорово!.. Мальчишечка!.. Девятьсот восемнадцать… Без штыка… Ей-Богу, Артем Иванович, до тысячи наскребем…
Сильнее становился запах горелой соломы, каменного угля и нечистот.
Бродский пронзительно смотрел в глаза Магдалине Георгиевне. Та не опустила своих. Лютая ненависть и презрение были в ее прекрасных глазах. Так продолжалось несколько мгновений, показавшихся Акантову безконечно долгими…
— Что-ж?.. — наконец, задыхаясь от негодования, сказала Могилевская. — Называет себя белым!.. Х-ха!.. Я этого человека знаю… От-тлично знаю… Вы его будете судить?.. Напрасно… Таких людей не допрашивают…
— Он — коммунист?
Господин полковник… Ну, что они говорят такого. Ну чего они могут про меня знать?.. Они же знают, что я пьянист, им на пьянино аккомпанировал. Они же меня видали, какой я коммунист? Я же белый, как чистый снег…
Магдалина Георгиевна быстро повернулась от Бродского и широкими, быстрыми шагами пошла с площади. Отойдя шагов на тридцать, она остановилась и сказала низким, густым, контральтовым голосом:
— Да… Полковник, этот человек — коммунист. Бродский стоял, низко опустив голову. Было что-то безконечно жалкое в его фигуре. Арчаков посмотрел на Бродского, потом на Могилевскую, и строго сказал:
— Вы уверены в этом, сударыня?..
Магдалина Георгиевна снова пошла, сопровождаемая Белоцерковским. Она шла с высоко поднятой головой:
—Он предатель, — кинула она на ходу, и взяла Белоцерковского под руку.
Страшным видением показалась тогда Акантову эта женщина, быстро шагавшая мимо серой толпы красноармейцев, мимо трупов и арестованных…
И почему-то, вспоминая все это теперь, в тихую Берлинскую ночь, Акантов подумал: «А, ведь, что-то есть общее между Могилевской и только что виденной мною Дусей Королевой…».
XVII
Днем был суд. Акантов в нем не участвовал. Триста китайцев, часть матросов бронепоезда и двадцать коммунистов, отобранных комендантом Арчаковым, подлежали уничтожению. Дело Бродского было выделено. Оно запуталось.
За завтраком, в помещении пристанционного трактира, комендант говорил Акантову:
— У меня, знаете, Егор Иванович, странное впечатление от этого жиденыша… По приказанию комиссара, в Москве собирал труппу артистов длz агитационного поезда южного фронта. Так, ведь, его заставили это делать… Я отнюдь не юдофил, но мне все говорит, что он не коммунист, а вот артисточка-то наша, от которой тут все наши без ума, наводит меня на раз мышления… И что-то жиденыш этот про нее знает, да пока не говорит, то ли боится, то ли жалеет ее. И, если я кого поставил бы к стенке, так это многоуважаемую Магдалину Георгиевну, а того жиденыша отпустил бы с миром. Иди и больше не греши…
— Что же постановили?.. - спросил Акантов.
— Да приказал пока посадить в подвал, до выяснения личности. И часового не приставлю. Никуда он не убежит… А показания может дать прям аховые… Ключ поручику Гайдуку передал. Мы не красные, мы должны быть прежде всего, справедливы. Мы должны искать правду…
Расстреливали приговоренных под вечер. Заведовал этим поручик Гайдук, и в его распоряжение был назначен взвод из люто ненавидящих коммунистов людей. Это были убежденные, считавшие, что, в условиях гражданской войны, иного выхода нет. Куда же девать эту заразу?
Комендант Арчаков уехал в штаб. Отряд, занявший станцию, отдыхал, расположившись по квартирам в поселке. О красных не было слышно, и, с обычным презрением к опасности, а, отчасти, и потому, что при отряде не было кавалерии, разведки не было выслано, и охранения не выставляли. Все было тихо кругом. Занятие станции казалось отдельным, случайные эпизодом; вокруг была ровная степь, на много верст было видно кругом, и везде было пусто, и тишина могилы стояла на железнодорожных путях…
В большой зал трактира собрались офицеры отпраздновать блестящую победу. Из вагона агитационного поезда притащили пианино. Белоцерковский обещал придти с Магдалиной Георгиевной. В поселке нашелся самогон, а в броневом поезде оказались и бутылки неплохого вина; ужин готовили на славу.
Акантову волей неволей пришлось быть на этом ужине. Его помещение было в этом самом зале. Он сидел в углу стола, на почетном месте, рядом со своим другом, доктором Баклагиным. Он пил мало.
Шумная беседа шла кругом него. Этот ужин был оазисом среди пустыни непрерывного холода смерти постоянных боев. Каждому хотелось забыться, хотя на час одурманить себя и уйти от пережитых волнений и ужасов.
Давно не видели женщин. Артистка, появившаяся снова в Русском сарафане, в кокошнике, расшитом стекляшками, с подмазанными щеками подведенными глазами, нарумяненная и набеленная, показалась изумительно красивой. Все было к ее услугам. Каждый старался ей угодить.
Но уже ходили среди офицеров слушки, что артистка-то она артистка, и, говорят, первоклассная, но зачем же была она у красных? И сосед тихо шептал на ухо соседу: «а что, как эта прелестная Магда и точно коммунистка?».
И, возможно, что слушки эти дошли до самой Магдалины Георгиевны. Она вдруг встала и сказала прекрасным, звучным и задушевным голосом:
— Господа!.. Все-таки… чувствую… Странно вам… Вчера вечером сидела с красноармейцами… с комиссарами… с лютыми врагами вашими… — Магдалина Георгиевна обвела томными глазами офицеров, тяжело вздохнула, и сказала с видимым отвращением: — с чекистами!.. Сегодня сижу с вами… Артистка… Много этим сказано… Я пела и декламировала перед Государем Императором… Я обожала Государя… молилась на него…
Несказанно тепел, чист, ясен и красив стал ее прозрачный, низкий голос. Он шел к сердцу. Осоловелые от усталости и от вина, добровольцы подняли головы, и глаза их прояснились. Магда, — влюбленным вздохом прошептал Белоцерковский. Государь отрекся… Государя арестовали… Государя истязали и убили… Моя, господа, была обязанность не допустить до этого?.. Магдалина Георгиевна опять сделала длинную паузу, и с силой сказала:
— Это была ваша обязанность, господа!.. Я служила искусству. Мое искусство — будить чувства, заглядывать в глухие, на замок замкнутые, тайники человеческой души… Я заглянула в эти страшные дни в ваши, офицерские души, и поняла… Вы ничего уже не могли сделать…
И снова было молчание и тишина, но тишина стала напряженной и страшной. Кое-кто тяжело вздохнул. Было душно в низкой бревенчатой столовой деревенского трактира. От нескольких керосиновых ламп, висевших под потолком, было яркое, нелепое освещение. В нем высокая женщина, стоявшая в голове стола, казалась по неземному красивой и, вместе с тем, зловещей. Магдалина Георгиевна продолжала тихим голосом:
— Это, господа, я не тост говорю… Я вспоминаю… И стараюсь объяснить… Не вам, но себе объяснить… И вот, я вспоминаю самое, самое ужасное. Ужаснее теперешнего, ибо то была начало… До жути ужасное…
Магдалина Георгиевна перевела дыхание. Точно трудно ей было говорить: задыхалась она.
— Это было при временном правительстве… Когда была безкровная революция… Когда наша интеллигенция взяла у Государя и его министров бразды правления… Тогда… Солдаты убивали своих офицеров и уходили с фронта… Тогда был Калущ и Тарнопольский небывалый погром… Помню… Летом ужасного этого года, 1917-го года, ехала я, как сестра милосердия, на фронт. Глухая ветка где-то между Минском и Овручем. В пустом вагоне, в отделении второго класса, — я и какой-то армейский штабс-капитан. Лицо совсем молодое — волосы седые. Мы разговорились. Время было такое, каждый искал сочувствующую душу. Офицер вынул бумажку и прочел мне стихи: — «Молитва офицера»… Я сказала, что я артистка и читаю стихи с эстрады. — «Возьмите их», — сказал офицер. — «Это ваши стихи?». — «Нет». — «Чьи же они?». — «Не знаю»… — «Они вам нужны?». — «Нет, меня все равно убьют солдаты»… — Я нигде потом не видала этих стихов в печати… Я читала эти стихи везде, где то было можно. Публика плакала… Мне часто были неприятности из-за них… Хотите, я прочту их вам?
— Просим!.. Просим!.. — раздались дружные голоса. Стало еще тише в трактирной столовой. Из поселка, издалека, доносилась солдатская песня. Но она не портила настроения молитвенной тишины, наступившей в столовой. Магдалина Георгиевна подняла кверху глаза:
— Молитва офицера, — сказала она и, после секундного молчания, начала читать стихи:
Христос Всеблагий, Всесвятой, Милосердный,
Услыши молитву мою…
Услыши меня, мой Заступник Усердный:
Пошли мне погибель в бою!..
Смертельную пулю пошли мне навстречу
Ведь, благость безмерна Твоя…
Скорее пошли мне кровавую сечу,
Чтоб в ней успокоился я…
На Родину нашу нам нету дороги,
Народ наш на нас же восстал,
Для нас он воздвиг погребальные дроги,
И грязью нас всех закидал…
Три года мы тяжко, безмерно страдали,
Святые заветы России храня.
Мы бились с врагами, но мы не считали
Часами рабочими нашего дня…
В глубоких могилах, без счета и меры,
В своем и враждебных краях,
Сном вечным уснули бойцы-офицеры,
Погибшие в славных боях…
Но мало того показалось народу,
И вот… Чтоб прибавить могил,
Он — нашей же честью — купил свободу,
Своих офицеров убил…
Правительство юное, люди науки,
И много сословий и лиц,
Пожали убийцам кровавые руки,
Прославили наших убийц…
— Егор Иванович, вы помните унтер-офицера Кирпичникова? — прошептал на ухо Акантову доктор Баклагин.
— Того, кому навесили Георгиевский крест за убийство своего начальника?..
— Того самого.
— Ага, помню… Да, было… Было… Какая это была подлость!.. Магдалина Георгиевна продолжала:
Терпенью исполнилась нашему мера…
Народ с нас погоны срывал,
И званье святое бойца-офицера
Бессовестно в грязь затоптал…
— Мне комендант, полковник Арчаков, говорил, что он думает, что она
коммунистка, а Арчаков никогда еще не ошибался. Как вы думаете, Иван Алексеевич?..
Чуть слышно ответил Баклагин:
— Она — женщина.
— Ну?..
— Этим все сказано.
— Я вас не понимаю.
— Погодите, дайте ей кончить…
Голос Магдалины Георгиевны окреп. Она выкликала слова, как пророчица. Все глаза были устремлены на нее. Прислуга-солдаты, тихо собиравшие со стола посуду, остановились и внимательно слушали артистку. На лице Белоцерковского застыло такое восторженное, влюбленное выражение, что на него было совестно смотреть.
Промчатся столетья, пройдут поколенья,
Увидят все новые сны,
И будут потомки читать без волненья
Истории страшной войны…
А в ней сохранится так много примеров,
Как Русский народ воевал,
И как он своих боевых офицеров
Своей же рукой убивал…
Магдалина Георгиевна низко опустила голову и замолчала. Не сразу раздались аплодисменты. Огромно и потрясающе было впечатление от прочтенного. Потом понесли на тарелке бокал вина, адъютант Акантовского полка с листом бумаги кинулся просить диктовать ему стихи. К нему присоединились и другие. Раздавались голоса:
— Записать!.. Записать!.. Господа, надо непременно записать, пока не забылось…
В эту самую минуту — это отлично запомнил Акантов, — в столовую вошел поручик Гайдук…
Он вошел, возбужденный, взволнованный, с блестящими глазами, точно пьяный. Будто не провел он эти вечерние часы за самым неприятным и тяжким делом кровавого уничтожения коммунистов, а неумеренно где-то пил…
— Ну, как? — спросил кто-то из офицеров.
— Отлично. Всех триста сорок девять покончили. Не проснутся. Уже закапывают. Отлично умирали китайцы. Как скот. Похоже было на то, что они не понимали, что их убивают. Матросы бронепоезда — слизь… На коленях ползали, руки целовали… Гадость!.. Коммунисты — ничего. Шестеро бежали…
— Как?..
— Как!.. Очень даже просто. Ты уследи-ка за ними, когда их почти четыреста, а мне всего двадцать человек назначили, и те мальчики. Удивляюсь, что они все-то не разбежались…
— Посмотрите на Магдалину Георгиевну — тихо сказал Баклагин Акантову. — Видите, как она преобразилась…
Магдалина Георгиевна остро и внимательно смотрела на Гайдука. Ее глаза расширились, тонкие ноздри раздулись и трепетали, чувственный, алый рот был полуоткрыт, и в его кровавом разрезе хищно блестели белые крупные зубы. Страсть, обожание, преклонение горели в напряженном взоре…
— Я вам сказал — женщина… Первобытная женщина! Да, впрочем, пожалуй, всякая женщина. Женщина, она любит убийц… Это еще из животного мира идет. Там самки смотрят, как в боях друг с другом самцы убивают один другого. Да, что говорить, а у людей?.. Римские цирки и любовь к гладиаторам, рыцарские турниры. Пронзи копьем соперника и получай любовь прекрасной дамы. Тут, батенька мой, просто-напросто — патология… И, вот, если в настоящей, правильной войне мы наблюдаем, а последнее время и изучаем, военную психологию, то в гражданской войне, где все обнажено, где все наружу, — это уже будет не психология, но патология войны…
Принесли новые запасы вина. Теснее сдвинулись за столом. Белоцерковского вызвал фельдфебель, и тот ушел. Акантов и Баклагин перебрались в темный угол и сели на старый трактирный диван. Магдалина Георгиевна диктовала стихи молодым офицерам, и все поглядывала затуманенными страстью глазами на жадно евшего и пившего вино Гайдука.
— Да, батенька мой, — низким басом говорил Акантову Баклагин, — ни что другое, как патология. Белоцерковский — красавец мужчина, высокий, стройный, черные кудри, при том — сама доблесть, рыцарь, храбрец, но убивает из пушек, издали. Он сражается, воюет, но не убивает, как мясник… А этот, поглядите на Гайдука, — слизняк. Урод, кривые ноги… Молоко на губах не обсохло. Вероятно, развратник… И при том же, слюнявый развратник. Убивал, возможно, что под кокаином, — да за то сам!.. «Цокал» из револьвера по затылкам, командовал залпы, добивал недострелянных, обыскивал трупы, снимал кольца, вынимал из карманов портсигары, деньги… Бррр.. Гадость какая!.. Палач… А ей — нравится. Она Белоцерковскому и нам стихи хорошие говорить будет, молитву читать, благословлять будет и взгляды нам посылать будет, а, простите за грубое слово, — спать пойдет вот с этим… палачом!.. убийцей!..
— Ну что вы, Иван Алексеевич…
— Помяните мое слово… Тем и страшна гражданская война, что на ее почве родится не уважение к противнику, как в настоящей войне, а ненависть и презрение. Не рыцарство, а тупая жажда убийства. Не доблесть и честность, а жажда наживы… Ограбить, достать, добыть… Обыскать убитого, добить раненого — все равно, из-за хороших ли сапог, или кожаной какой куртки, или из-за бумажника с «керенками»… Изнасиловать девушку — все, милый, позволено. Вы, батюшка, обратили внимание: вчера Белоцерковский забирает Магдалину Георгиевну по праву добычи! Голубчик, в настоящей-то войне, за это — разстрел!..
— Ну?.. ведь, она — сама… Они, видимо, хорошо знали друг друга…
— Она… На смерть напуганная женщина… Да что ей!.. Подумайте, могла на вчера сопротивляться? Как собаку, взял и повел к себе на сворке… Вместе спать… Тьфу!.. Мне такие нравы противны. Знаете, хорошая проститутка, и то так не пойдет. Вот вам, что родится в гражданской войне. Они так с нами, — и мы будем так же с ними. Раньше: герой — рыцарь!.. Как это в стихах-то сказано: «бедный и простой»… Честь, целомудрие… А тут?.. О, Господи!.. Тут о чести говорить не приходится, а целомудрие сохранять просто глупо. Вы говорите: коммунистка, — Арчаков сказал… Какая там коммунистка!.. Просто материалистка в высшей степени. И знает себе цену, умеет себя продать…
— По существу, одно и то же.
— Жутко, милый Егор Иванович. Как потом привьете вы новому поколению старые взгляды порядочности. Невинность девушки-невесты покажется смешным предрассудком. Отвращение к палачу, к предателю, к изменнику, шпиону — глупостью. Деньги!.. Выкачать из них блага, — вот и все!.. За офицерским столом становилось шумнее и пьянее. Магдалина Георгиевна сидела рядом с Гайдуком и тихо шепталась с ним. Молодой кавказец в черкеске, при шашке, горячий, сильно охмелевший, что-то кричал на другом конце стола. Присутствие красивой и, по всем ее повадкам, как будто доступной, женщины пьянило крепче самого крепкого вина. Все распалились, забыли обо всем. Голоса стали громки, жесты — вызывающи. Спорящие поглядывали на артистку, ожидали ее одобрения.
— Эх, спать не дадут, — сказал Акантов.
— А вы, почему не пойдете к себе, — сказал Баклагин.
— Да куда же я пойду, когда в этом зале мне и отведена квартира…
— Да… Разгулялись, видать, до утра…
Кавказец, все его попросту звали Сандро, кричал что-то о рубке. Сильно посоловевший пожилой, тучный пехотный капитан, сидевший верхом на стуле по середине столовой, сказал с пьяной убедительностью:
— Ну, полно хвастать, Сандро. Где тебе перерубить человеческую шею? Там эти чортовы мускулы… Кости, позвонки, жилы, сухожилия… Это, брать, тебе не курица…
— Давай твоя шея, чисто срублю!
Сандро выхватил из ножен шашку. В пламени ламповых огней золотой молнией блеснуло лезвие кавказского «волчка»…
— Ну, что ты, Сандро, — поворачиваясь к нему, сказал юноша-доброволец, — с ума, что ли, спятил, нашему славному капитуше голову рубить? Ты что же, большевик, или кто?..
— Давай мне балшевика… Давай коммуниста… Станови на колени… Голова буду чисто рубить!..
— Эк, его развезло, — проговорил, зевая, Акантов. — Потеснитесь немного, я на диване прикорну… Вторая ночь без сна…
Акантов прилег, согнув ноги в коленях, положил голову на ручку дивана и закрыл глаза. Он продолжал слышать шум и крики, но шум и крики точно удалялись, уходили от него. Потом все стихло и ушло в небытие. Все исчезло… Акантов крепко заснул. Он спал в неудобной позе, одетый, с головой на жесткой сальной ручке, но спал недолго. Его разбудил дикий крик:
— Давай!.. вай… вай… вай!..
Акантов открыл глаза и несколько мгновений ничего не мог сообразить. Все показалось ему диким, кошмарным сном. Подле него стоял доктор и говорил, торопливо и растерянно:
— Полковник Акантов… Егор Иванович, что же это такое? Их остановить надо…
За столом, напротив Акантова, крепко схватив за руку выше локтя Гайдука, стояла Магдалина Георгиевна и безумными, огненными глазами смотрела вглубь столовой.
Стол был отодвинут. На образовавшемся пустом месте стоял на коленях Бродский. Он вытянул шею и со странною, глупою, ничего не понимающей, улыбкой оглядывал столпившихся вдоль стен офицеров. В углу, за печкой, стоял, хищно нагнувшись, напружив согнутые в коленях ноги, Сандро. Он подоткнул полы черкески за ременный поясок, вытянул шею и смотрел безумными, жадными глазами на Бродского. В правой руке его дрожала крепко зажатая в кисти руки обнаженная шашка. Все это казалось или сном, или дикой какой-то игрой. Вдруг, с пронзительным криком: — Давай-вай-вай- вай !.. — Сандро вылетел, как вихрь, из-за печки, шашка визгнула в воздухе, и никто и охнуть не успел, как начисто отсеченная голова Бродского, с глухим стуком, точно упавший со стола кочан капусты, покатилась к ногам Магдалины Георгиевны. Обезглавленное тело покачнулось, и медленно, струя фонтаном кровь, повалилось на пол.
Как новая Саломея, бледная до синевы в лице, с горящими глазами, прижав обе руки к груди, стояла Магдалина Георгиевна. Томящая, гулкая до звона в ушах, кругом стала тишина. Вскочивший с дивана Акантов услышал, как металлическим, звенящим
голосом сказала Магдалина Георгиевна:
— Какой вы молодец, Сандро!..
Она пошла, покачиваясь, из столовой, Гайдук подбежал к ней и взял ее под руку.
В ту же минуту, совсем близко, казалось, что в самом поселке, раздались выстрелы, и вбежавший в трактир доброволец крикнул:
— Господа!.. Красные нас атакуют!..
XVIII
С этой тяжелой, кровавой ночи счастье победы покинуло Добровольческую армию. Точно присутствие женщины, артистки Магдалины Георгиевны Могилевской, принесло несчастье, сглазило былые успехи.
В ту страшную ночь выскочили с трудом. Денщик Белоцерковского на батарейной тачанке умчал полковницкую барыню в тыл. Батарея стала на позицию у самой станции, на площади, подле трактира, и безпорядочными, частыми выстрелами остановила наступление красных и дала возможность кое-как собраться пехоте. Сандро, во главе ординарцев и конных офицеров, с безумной отвагой кинулся навстречу красным казакам, и был убит, но красных опрокинул, несмотря на то, что красных было в десять раз больше.
Утренний густой туман прикрыл отступление полка Акантова.
А там и пошло…
Осенний ветер срывал последнее золото листвы с белых берез, темнели и набухали влагою высокие тополя и узкими метлами торчали у въезда в селения. Черноземная грязь широких степных шляхов губила людские и конские силы. По железнодорожным путям тянулись безконечно длинные составы товарных поездов. Увозили добычу, беженцев из покидаемых городов, офицерских жен и детей, всех тех, кто, в той или иной мере, помогал добровольцам. Судьба тех, кто, по легкомыслию, или потому, что поверил обещаниям красных, или просто не пожелал разстаться с насиженным гнездом и имуществом, и остался, была ужасна.
За Добровольческой армией ползли слухи о невероятных пытках, которым подвергали всех тех, кто когда-то радовался победам «белых» и встречал их, как триумфаторов. Заживо сожженные монахи и священники, посаженные на колья люди, офицеры, с которых с живых снимали кожу, выкалывали и выжигали глаза, изнасилованные толпою пьяных красноармейцев девушки, — страшными призраками шли по следам отступающих. Они стояли над ними жестоким, омрачающим совесть, упреком…
Арьергард добровольцев, лучшие их полки, кидались в контратаки, жертвуя собой, чтобы задерживать настигавшую армию красную нечисть. Главные силы отступали неудержимо, почти не останавливаясь. Сыпной тиф косил армию. Силы людей были надорваны, дух утерян…
Наступила зима.
Полк Акантова, с батареей Белоцерковского, остановился на дневку в большом селении. По случаю дня рождения Магдалины Георгиевны, Акантов получил приглашение к Белоцерковскому на обед.
Обед устраивался в доме волостного правления. Сам Белоцерковский жил неподалеку на краю селения.
Акантов пошел на обед с доктором Баклагиным. В серебряной оправе инея были нарядные высокие тополя. Раскидистые яблони и груши, с налипшим на черные их ветви снегом, стояли недвижно, как зачарованные. Закатное солнце позолотило их белый, снежный убор.
Акантов шел рядом с доктором, и тот говорил ему ворчливым баском:
— Помните, осенью, в тот ужасный день, когда был у нас бой на станции, я разсказывал вам про патологию гражданской войны… Подтверждения кое-какие уже имеются, Гайдук при Могилевской в роли «кавалье серван», то есть, по-нашему, — хахалем околачивается… А благороднейший рыцарь наш, Николай Иванович, туча тучей… Ревнует… По писаному идет и к нехорошему приведет…
Гулко стучали сапоги по обмороженным, покрытым льдом и посыпанным песком, ступеням крыльца. На перилах, на подоконнике, на ставнях, на пологой железной крыше пуховыми подушками лежал толстый слой снега. Предзакатное небо казалось зеленым, розовые лучи солнца клали нежные, переливающиеся краски на снежную белизну. Мягок и душист был мороз.
Акантов приостановился на крыльце и посмотрел вдоль улицы на север. За селением, в ровной, далеко идущей степи, курились голубые туманы. И почти на горизонте, в безлюдном просторе, лиловым островом стояло се'ление: там был неприятель, — большевики…
Потоптавшись на досках ступеней, чтобы стряхнуть налипший на сапоги снег, Акантов и Баклагин вошли в избу…
В просторном помещении, с белеными известкой стенами, густо пахло капустой и горячим тестом. Большие, длинные пироги, только что вынуты из печи, стояли на столе и точно дышали золотистой масляной, хрусткой корочкой.
Батарея постаралась угодить любимому командиру. Деревянный, стул в голове стола был увит еловыми ветвями. Шарообразные кусты бледно-зеленой омелы с прозрачными белыми ягодками были подвешены над праздничным столом. Но хозяина и хозяйки еще не было. Старший офицер батареи, капитан Бондарев, встретил гостей:
— Николай Иванович просил извинить его, — сказал он Акантову, — он чуть-чуть припоздает. С час тому назад, он с поручиком поехали попробовать в санках нового рысака, которого увели из-под Курска. Вы не видали его?.. Темно-серый, совсем стальной… Побежка изумительная.
— Беговой, наверно, — сказал другой офицер-артиллерист, Навагин. — Им уже и вернуться время, — добавил он. — Темнеть начинает…
Солнце, залив румяным светом белые стены, и, поиграв перламутровыми красками на расписных морозом стеклах, скрылось, и темнота, по-зимнему уютно вошла в теплую комнату.
Солдаты-артиллеристы зажгли лампы. Офицеры батареи, их было шесть, Акантов, Баклагин и два пехотных офицера, толпились около стола, поджидая хозяев. Кое-кто закурил папиросу. Создавалась некоторая неловкость. Разговор не вязался. Посматривали в окно, закрываясь от света ладонями, выходили на крыльцо… Кто-то сказал:
— Идут…
На дворе под окнами раздался топот конских ног и шелест санных полозьев. Из освещенной комнаты в сумрак наступившего вечера не было видно. Акантов вышел на крыльцо посмотреть рысака.
Сани остановились у крыльца. В них неподвижно лежал человек в светлой длинной шубе. Другой, — Гайдук, — соскочил с саней, и, обмотав вожжи около вереи крыльца и отталкивая Акантова, вбежал по ступеням в зал:
— Полковник Белоцерковский сейчас застрелился! — взволнованным голосом сказал Гайдук.
— Где он?..
— Я привез его. Он в санях… Все бросились в двери…
Быстро убрали со стола ароматные пироги, сняли бутылки, столовые приборы, составили все по скамьям и на полу.
Поручик Навагин размотал со стула еловые ветки и разбросал их по полу. К запаху капустных пирогов и лука примешался смолистый аромат ели, напоминающий о празднике Рождества Христова и о покойнике…
Тяжело топоча ногами, впуская морозный пар в теплую хату, офицеры и солдаты внесли тело полковника Белоцерковского, и, по указанию доктора Баклагина, положили его на длинный стол, на белую, холщовую скатерть.
Мертвая, скорбная тишина стала в зале. Все растерянно жались вдоль стен. Доктор Баклагин приступил к осмотру тела самоубийцы:
— Так… так, — бормотал он, осторожно приподнимая голову Белоцерковского, с белым, точно восковым лицом и седеющими, залитыми кровью волосами. Темно-красное пятно расплылось по чистой скатерти, слышнее стал противный, пресный, металлический запах свежей человеческой крови.
— Господа, — сказал Баклагин, оглядывая взглядом офицеров, — если бы кто-нибудь из вас, не приведи Бог, вздумал бы стреляться, куда и как стрелялся бы он?..
— В рот.
— В сердце…
— В висок, — раздавались несмелые голоса.
— Хорошо… В висок?.. С какой стороны? Навагин потянул руку к своему виску:
— С правой, Иван Алексеевич.
— Конечно, с правой, — подтвердил и юный юнкер.
— Господа, вы не примечали, Николай Иванович не был левшой?..
— Ну, что вы, доктор… Да когда же?.. Самый нормальный человек…
— Ну, так… так… Поручик Гайдук, с какой стороны от вас сидел полковник?..
Но поручика Гайдука в комнате не было. Кинулись к крыльцу, где была привязана лошадь, но там не было ни лошади, ни саней… Все, кто в чем был, в рубашках и кителях, без шапок, побежали на квартиру Белоцерковского…
Там никого не было… Денщик Белоцерковского с утра ушел в волостное правление готовить обед. Хозяин хаты довольно безтолково объяснил, что барыня с ночи уложила все свои вещи по сундукам и увязкам, и вот: «зараз приехал офицер за нею, с санями и со всеми вещами, увез ее в санях. Да шибко так погнали»…
— А куда?..
— Кто ж их знает-ведает… Вот, Сенька видал, сказывал: к краснюкам подались. Кнутом так и нашпаривал он коня-то… Вскачь пустил лошадь-то, вихром умчались…
Вышли на улицу.
Ночь. По черному небу загораются звезды… Ничего не видно в мягко сверкающей, как темная парча отливающей, снежной степной дали…
Какая тут могла быть погоня?..
Когда Акантов вернулся в волостное правление, он застал доктора Баклагина над телом Белоцерковского. Доктор сказал ему:
— Вот вам и патология!.. Какое там к черту самоубийство?.. Самое настоящее, и при том же чекистское, убийство…
С врачебной безцеремонностью, Баклагин приподнял голову мертвеца:
— Изволите видеть: в затылок с br /левой стороны и на разстоянии не менее шести вершков. И волосы не обожжены… Какой самоубийца так далеко дотянет?.. Какой там, к черту, самоубийца станет стреляться, имея рядом с собой другого человека?.. Все у них было обдумано и сговорено. А такие люди, как Гайдук?.. Им что?.. Им все одно, кого пристраивать: красного или белого, — один черт!.. Да, я слышал, мне сейчас кто-то из офицеров сказал, будто родной брат Гайдука в Петроградской чека служил… Только теперь додумались понять это!.. А она?.. Выходит, полковник Арчаков не ошибался. Нюх у него, как у хорошего пойнтера… «Молитву офицера» читала, плакала слезами жалости и благоговения, а душа-то ее была с ними, с красными… Там и платят щедрее, и чувственность там острее… Звериная чувственность… Такова-то, батенька мой, патология гражданской войны!.. Не дай Бог никому ее испытать…
Акантов больше никогда ничего не слыхал ни про Магдалину Георгиевну, ни про Гайдука. Ушли, словно в другой мир…
Подобно длительному, мучительному, кошмарному бреду разворачивалось далекое прошлое в памяти Акантова: Да, вот, как оно было… Вот какая была моя жизнь, жизнь нашего поколения. Тяжелые бои, рукопашные схватки… разстрелы пленных коммунистов… Кровь и ужас… непревзойденная храбрость, мужество, и тут же — гнусная подлость и предательство…
Пётр Краснов. Отрывок из романа "Ложь"
Расскажи в социальных сетях:
шизобред не надо гнать. Мы живем в 21 веке и определить кто полукровка, а кто нет можно по анализу днк.
вся страна была холуями и твои кстати родители тоже были холуями в жидовской СССР. И сейчас военные и многие гражданские холуи служат сегодняшней жидовласти. И что ? будем дальше плеваться или пытаться исправить ситуацию ?
А Троцкий резал русских за идею. Да разве о том статья, но сталинисту хоть кол на голове чеши. По моему всё Пётр Краснов гораздо лучше описывает как действовали жиды и в чьих интересах. Я уж не говорю что заинтересованность в победе коммунистов у евреев была куда как больше.
http://1914ww.ru/img/foto/kolchak_oficial.jpg

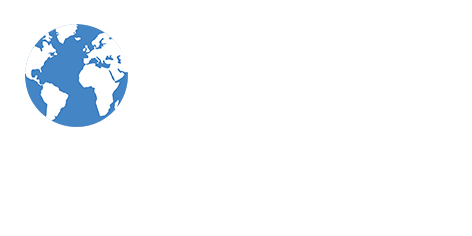

 Меню
Меню
































